 |
|
Художник Ю. Гукова
Часть четвертая
Небесные яблоки
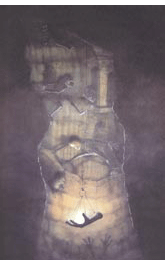 С чего начинается ослушание - вот интересный вопрос! - уж не с того ли,
что боги решают не вмешиваться в судьбу человека? Или только лишь ненадолго
смолкают? Или сам человек по слабости, по болезни - как Родовит, например,
- перестает задавать им вопросы - на очень короткое время перестает! -
а из этого что получается? Вот уже и небесных яблок человеку охота. Раньше
только Лихо и Коловул мечтали о них да и то сказать: так, вполсилы мечтали
- больше Лихо мечтала, чтобы мать обидой своей уколоть. Ну и Велес, конечно,
- не столько о яблоках, сколько о саде небесном - и мечту свою приближал!
Так на то он и бог - а какой, всем известно, - чтобы дерзкое измышлять.
Но Родовит, князь, всегда себя почитавший человеком Перуна и Мокоши, он-то
как размечтаться о яблоках этих мог?
С чего начинается ослушание - вот интересный вопрос! - уж не с того ли,
что боги решают не вмешиваться в судьбу человека? Или только лишь ненадолго
смолкают? Или сам человек по слабости, по болезни - как Родовит, например,
- перестает задавать им вопросы - на очень короткое время перестает! -
а из этого что получается? Вот уже и небесных яблок человеку охота. Раньше
только Лихо и Коловул мечтали о них да и то сказать: так, вполсилы мечтали
- больше Лихо мечтала, чтобы мать обидой своей уколоть. Ну и Велес, конечно,
- не столько о яблоках, сколько о саде небесном - и мечту свою приближал!
Так на то он и бог - а какой, всем известно, - чтобы дерзкое измышлять.
Но Родовит, князь, всегда себя почитавший человеком Перуна и Мокоши, он-то
как размечтаться о яблоках этих мог?
А вот - размечтался и не на шутку. Дажьбога встречал, на капище шел, Перуну
и Мокоши молитву творил и в это же самое время мыслью своей отлетал: ну
мало ли что, а вдруг этот храбрый, проворный степняшка и вправду небесных
яблок ему принесет? И что же в этом плохого? Да ничего. Просто он, Родовит,
будет править своими людьми всегда. Вечно будет: Перун на небе, а Родовит
в дому - всё равно не найти его людям лучшего князя!
А о Ягде что и сказать? Когда Жара река унесла, когда Велеса хмурым его,
бестрепетным каменным ликом прямо в мокрый песок уложили, у нее и мыслей
иных не осталось: только бы невредимым вернулся Кащей, только бы яблоки
из небесного сада принес. Не потому, что вечно княжить хотела. Нет. Вечно
хотела любить, как Перун жену свою Мокошь, как Лихо близнеца своего Коловула...
И тут возникает не менее трудный вопрос: желание вечного бренному человеку
уж не сами ли боги внушают - вечной жизнью своей? И не следом ли за внушенным
этим желанием к человеку и ослушание приходит? Эти вопросы Симаргл себе
задавал, с тревогой в сердце Кащея читая. Нет, не Кащея вину, а свою он
искал - в том, что есть, в том, что может еще случиться... Или всё-таки
не случится? Путь-то длинный к небесному саду - успеет, одумается Кащей
или Симарглу, быть может, его образумить удастся?
Нет, не ведают боги грядущего. Страшно вымолвить, даже и Мокошь дальше
следа от копытца не видит. Тьму в нем видит, а кто ее замышляет, не знает!
Так и ткется из ослушания и незнания жизнь людей и богов - неразрывная
жизнь - как холстина из утка и основы.
Мы забыли любовь - ее пеструю нить. На холстине незнания и ослушания вышивает
любовь затейливый свой узор. Быстро нить за иглою бежит. Чья игла? Кащея
и Лихо. А нить? Нить, конечно же, Ягдина - с ее ладного веретенца.
Немного осталось еще подождать, и увидим тогда весь узор - целиком.
 |
1
Быть может, от пережитого, а может, и просто срок подошел, а только у
Жара новая линька случилась. Нечисть его на себе тысячеспинно несла, уже
в тронную залу его, бесчувственного, вносила, уже и Велес с трона каменного
приподнялся - и что же тут началось! - судороги, рывки, дрожь по всему
Жарову телу и хрипы из глотки, и с хрипами вместе искры. Даже Велес растерянность
ощутил. А о нечисти что говорить? По углам разбежалась и в щели забилась.
На полу теперь корчился змий. Корчился или кончался? Вот уже и вся кожа
на нем будто волною пошла. И пламя из пасти не красным, а сизым сделалось.
С ужасом Велес теперь на это смотрел. И как ни хочется нам снова прежним
вопросом задаться: любил ли Велес хотя бы детей своих? - лучше мы этот
вопрос отставим. Уж слишком неправдоподобным может быть на него ответ.
Мучился Велес, на мучения Жара смотрел и мучился сам - что правда, то
правда. Но мучился тем лишь, что Жар ему уже не помощник больше. А как
же без Жара? Новый Велесов замысел овладения небом - смелый, дерзкий,
стремительный, грандиозный - был без Жаровой помощи вряд ли осуществим.
- Ну же, сынок! Или, может, тебя водою облить? - и отвращение пересилив,
над Жаром склонился. - Или ты меня испугался? А я и не страшный совсем.
Я же тебе отец!
И тут почти невозможное началось, даже Велес попятился. Там, где темя
у Жара было, кожа надорвалась и стала с него сползать всё убыстряющимися
рывками. Или нет, это сам он стал выползать из нее, мутной слизью покрытый,
а под слизью была чешуя и какая-то новая, не знакомая Велесу, еще более
острая морда. После нескольких быстрый рывков, после катания по полу и
последней, мучительной судороги Жар от прежней кожи своей наконец-то избавился.
Приподнялся на четвереньки, передернул всем телом, стряхнул с себя слизь...
И тогда на руках и ногах у него - там, где пальцы вчера еще были, - стали
когти заметны и между ними зеленые перепонки. А когда Жар на ноги вдруг
поднялся или, будет теперь вернее сказать, на задние лапы - ахнул Велес
- Сыночек! Вот это громадность! А оскал! До чего же оскал у тебя теперь
необъятный!
А Жар, немного опомнившись, тому перво-наперво удивился, что головой он
почти упирается в потолок. На цыпочки встал и уперся.
- Ну вот, - изумленно сказал, - теперь меня точно не победить!
- Тебя и меня! Сынок! - крикнул Велес и лапищей волосатой сына похлопал.
Нарочно похлопал так, что в другой бы раз и свалил. А нет, теперь устоял
его сын да еще отца в ответ приударил - Велес не крякнул едва. Сдержался,
сказал: - Ты теперь отдыхай, отъедайся. Спи вволю. А после будет у нас
разговор!
- Мы подумаем, как отомстить за меня, да, отец?
- Аха-ха! - и почти не хромая, Велес к трону пошел, и легко запрыгнул
в него, до того был взволнован. - Мы подумаем, о путешествии к Нижнему
морю! О необъятности мира, который объять дано только нам!
- Но сначала, отец, мы должны разразить людей! Замучить их гладомором,
падежом коров... А еще сотрясением земли! Отец, ты же можешь!
- Не спеши, сын. Сначала мы выбросим из небесного сада этого длинноусого
и глухого метателя молний! А Мокошь похитим...
- И Ягду! - с волнением выкрикнул Жар и - чтобы волнение унять: - И Щуку
похитим, и Ладу! Всех, всех, кого захотим!
- Ты вырос, сынок! - и Велес трижды хлопнул в ладоши. - Кормить тебя надо
теперь за троих.
И тут же забегала нечисть, засуетилась - были, видимо, в боковом коридоре
запасы - и вот уже на согнутых спинах блюда с любимым Жаровым лакомством
понесла. Копошились на блюдах черви, личинки, улитки, раки, норовя на
каменный пол соскользнуть. А Жар их раздвоенным языком и на полу доставал.
На четвереньках стоять ему теперь даже удобнее было.
Молчком это Велес отметил - с неприязнью вначале, а после подумал: "Для
замысла моего небывалого это ведь даже и хорошо!"
2
В последнее время слишком уж часто Мокошь смерчем носилась - не могла
себе места найти в небесном саду. Это и люди приметили и между собой обсуждали,
тревожились, а иные и к Ладе спешили, чтобы Лада им погадала: не прогневали
ли они Мокошь-богиню чем? Чаще всех Яся гадать ходила - так за Утку и
Зайца страшилась. И Роска, Калины жена, чуть не всякий день приходила,
потому что первенца своего ждала. А если Мокошь во гневе будет, кто же
в родах тогда поможет, кто младенца приветит - нить на новое веретенце
натянет?
А Родовит сам с собой, без Лады, так решил: жертвы Мокоши и Перуну надо
удвоить. Он-то знал, чем богиню прогневать мог!
И все-таки - что же Мокошь? Себе она свой непокой хоть чем-нибудь объясняла?
Грядущего ли страшилась, небывалого ли ждала? Или будет вернее сказать:
не ждала уже - рыскала, высматривала повсюду? Вот вспорола Сныпяти брюхо,
как ножом по рыбине серебристой прошлась, чуть икры из ладейных людей
на берег на наметала - а зачем? Вот заметила на березовом склоне Кащея,
и ему вдогон понеслась. Обогнула Кащея, подхватила Фефилу - неприметного
в рыжей листве, маленького зверька - вихрями ее стиснула, будто зернышко
жерновами, потерла да и выбросила - в болото хотела забросить, но промахнулась
- на вершине высокой осины очутился зверек. Не любила Мокошь Фефилу, всегда
не любила, потому что не знала о ней ничего: ни вода небесной реки, ни
след от копытца про Фефилу не говорили. Сколько в них ни гляди, а не видно
там было ее!
И когда с неподвластным этим созданием наконец-то разобралась, обратила
свой взгляд на Кащея. И хотя обещала Симарглу не вмешиваться в его судьбу,
- но Симаргл свое слово уже ведь нарушил! - вот и ей захотелось, раз нельзя
подкрутить веретенце, самого его подхватить, завертеть... Или нет, веселее
забаву придумала Мокошь - перед самою мордой его коня ком из рыжей листвы
слепила и кубарем к близнецам его погнала! И уж так от него боялись отстать
оба - и конь, и Кащей - хохотала из смерча Мокошь - так неслись за ним
во всю прыть, что опомнились только возле самой пещеры, когда черные волны
овец их со всех сторон окружили и стремительно повлекли в кромешную тьму.
А Лихо увидела только, что за гость к ним пожаловал, и невод из рук обронила,
и гостя нежданного побежала встречать. А Коловул кругами уже носился и
овцам своим с рычанием помогал.
Тут и оставила Мокошь Кащея - своим близнецам на забаву - а что дальше
делать, не знала - чем бы можно еще непокой свой унять. И домчавшись до
неба, стала в клочья рвать облака. А потом уселась на самом пологом и
снова богиней сделалась - ясноглазой, пышноволосой, нарядной. Обхватила
руками колени да и подумала вдруг: отчего же так весело ей и так страшно?
И разве может быть разом и страшно, и весело? Может! Так было уже однажды,
когда Велес ее похищал. И предчувствие - да? неужели? - все одежды ее
вмиг окрасило в алое и лиловое.
3
А в Селище желтый лист уже все деревья обвесил. А где не был он желтым,
был багряным, был рдяным, был золотым... Яся все глаза проглядела - так
Утку и Зайца с охоты ждала. Удал уже сколько раз в лес ближний ходил,
он и в дальний лес собирался, но туда дела не пускали. А вернее сказать:
Родовит. Он теперь всякий день жертвы богам приносил. А тверже руки, чем
у Силы с Удалом, не было в Селище ни у кого.
О судьбе кудрявой черной овцы, которая той ненастной, ни на что не похожей
ночью сначала в окне показалась, а потом и по дому княжескому засеменила,
копытцами застучала, Родовит теперь думал дни напролет. Овца эта в клетке
жила, в которой когда-то Кащея держали. И стоило Родовиту мимо клетки
пройти, так сразу овца и кричала:
- Бе! - и замолкала на миг, как будто от Родовита ответа ждала, а не дождавшись,
опять вопрошала: - Бе?
И тогда Родовит помимо воли своей отвечал:
- Да.
И оттого, что опять выходило: "бе-да" - вздрагивал старый князь.
Потому что беды отовсюду ждать можно было. От Утки и Зайца - что не вернутся;
а если вернутся, от Ягды тогда - что не примет она ладейного жениха; от
Жара - что явится снова да еще Велеса ярость на Селище наведет; а уж какой
беды можно было ждать от Кащея, от гнева богов за него - Родовит и подумать
страшился... В конце концов так решил старый князь: беду эту надо против
овцы повернуть. Беда, говоришь? Вот и будет беда на черную твою голову.
В жертву решил Родовит принести злую вещунью - Перуну и Мокоши.
Утро было. Туман над землею стоял - густой, непроглядный. В молоке этом
даже овца не черной, а серой была. А если на пять шагов отойти, и белой
уже овца становилась. Даже огонь, который Сила развел, серым пеплом казался
покрытый. А идолов среди капища словно и не было вовсе. И потому Родовит
прямо к ним подошел, уж если глазами нельзя - руками к богам прикоснуться.
Овцу Удал на плечах держал. И он же должен был горло ей перерезать. А
только послышалось за спиною у Родовита: "Бе!" А потом сразу
крики Удаловы:
- Стой! Нельзя! Куда побежала? Боги обидятся!
И всё. Тихо стало над капищем. Только слышно, как Сила с Удалом в белом
месиве носятся. А овца себя даже вздохом не выдала. Смешалась с туманом,
будто творог с молоком.
- О Мокошь! И ты, чье имя вымолвить разом не хватит сил! - так начал в
отчаянии князь и показалось ему, будто гром покатился в ответ - от реки
покатился. А потом уже понял: нет, не гром. Это - весельный плеск стена
поющая отразила, и умножила, и над Селищем понесла. И тогда закричал Родовит:
- Боги вняли моей мольбе!
И кузнеца с Удалом позвал, велел поскорее на берег себя отнести. Ногами
бежать ни сил, ни терпения не было. И торопил их дорогой. А только зря
торопил, если даже не видно было, куда и ногу поставить.
Лишь по плеску воды угадал Родовит, что вот она, Сныпять, наконец уже
рядом. Лишь по дыханию и по шепоту робкому понял: люди на берегу высоком
стоят, много людей - всё Селище, значит. Стоят и не дышат почти, себя
потому что выдать бояться, и слушают, как стена умножает незнакомую речь.
"Милто! - шепчет стена. - Отие! - шепчет. - Васарис!"
Потому что люди там, на воде, тоже шепчутся, громкий голос страшатся подать.
И тогда оперся о посох свой Родовит и крикнул что было силы:
- Гости ладейные, дорогие! Вы ли это?
А из белого марева вдруг в ответ понеслось:
- Они самые! Кто же еще?
Яся прежде других догадалась: это Зайца был голос. И закричала:
- Заяц! А Утя?! Он там, с тобой?
- Там я! Тут! Не ори! - точно, Утин был крик.
И когда стена его повторила, Яся без памяти рада была, что еще и еще его
голос услышать можно. И заплакала от волнения:
- Сыночек! А что же ты делаешь там?
- Мам.... Мы тут... ну это... для Ягды жениха привезли.
"Для Ягды жениха привезли!" - повторила стена. И еще раз, и
снова: "Для Ягды жениха привезли!"
- Какого еще жениха? - это Ягдин был голос - удивленный, негромкий.
А потом слышно стало, как большая ладья носом в берег уткнулась. И от
этого люди на ней с волнением загомонили:
- Илеэ каалту! Дйинстур!
И стена растерялась, не знала, что раньше и повторять: слова непонятные,
или, может быть, топот тяжелых ног, или звонкий шелест кольчуг? Всё смешало
гулкое эхо.
И опять страх и ропот в людей Родовита проник. А тут еще Ягда опомнилась,
голос ее громким сделался, будто бы грозным даже:
- Я спрашиваю, какого вы мне привезли жениха?!
И Корень с Калиной по берегу заметались:
- Князь-отец! Не за мечами ли нам податься?!
- Слышно - железо на них гремит!
- Нет, нет! Нет! - из непроглядности возопил Родовит. - Ладейные гости
- добрые гости! Князь Родовит приветствует их! И люди Перуна и Мокоши
тоже!
- Да, тоже! Приветствуем! - загомонили на склоне, сначала негромко, а
потом всё решительней, всё смелей, чтобы страх свой прогнать. - Ладейные
гости - добрые гости!
Быть может, дыхание людей, их взмахи и голоса чуть отогнали туман, а может
быть, это и ветер подул. А только увидели люди вдруг - как месяц видишь
сквозь быстрое облако - чудо, какого не видели прежде, - похожее именно
что на месяц небесный.
- Ладья?! - первой Щука вдруг догадалась.
А после уже понеслось:
- Какая! Гляди ты!
- А весел-то сколько!
- Мам, это вправду ладья?
- Ой! Ой! А по дереву-то, смотри, прямо как вышито!
А ладейные люди на берег уже забирались, высокие, бородатые, в кольчугах,
в шлемах округлых. А мечи на них были уж такой опасной длины, что даже
Сила, кузнец, глаз свой с тревогой прищурил.
- Ладейные гости - желанные гости! - поклонился им Родовит.
И люди им тоже тогда старательно кланяться стали.
Одна Ягда бесстрашно вдоль них побежала, Утку в хвосте у пришельцев нашла,
за руку его ухватила:
- Зачем вы их привезли? Зачем мне ладейный жених?
Утка прежде глаза опустил, а после ответил негромко:
- Потому что Кащей, получается... ну, что он не вернется уже. Но ты лучше
про это у Зайца спроси! Ага...Точно лучше.
И Ягда, себя не помня, бросилась Зайца искать, и руками людей раздвигала,
как воду во сне, когда в проруби тонешь, а вода тебе всплыть не дает.
4
Кто мог подумать, что из Велесова подземелья есть к Нижнему морю лаз?
И что лаз это так походит на колодец без дна? И что Велес заставит Жара
по мокрым каменным стенам карабкаться вниз? Но так и не скажет: а долго
ли - день, ночь или бессчетность дней и ночей?
То ли страх его, то ли скуку развеять - вместе с Жаром Велес и нечисть
послал. "Самых храбрых, - сказал, - с тобой посылаю. Береги их! За
каждую мне ответишь!"
А как же было за них отвечать, когда трое почти на одно лицо оказались,
а двое других хотя между собой и разнились, а только по именам их запомнить
было никак нельзя. Сколько Жар ни твердил себе: Лохма, Тыря, Шня, Волокуша,
Хлобысть, - но понять, кто же Лохма из них, если все они безволосы, не
мог. Если каждой, когда она шмякалась на уступ, так и хотелось крикнуть:
"Хлобысть!" Если на Тырю сразу две отзывались!
Но эта забота была не заботой, а так - отвлечением от страха, от пота
холодного, от бурчания в животе... Или все-таки Велес дал ему нечисть
с собой, чтобы голод в далекой дороге унять? Нет, сказал же: "За
каждую мне ответишь".
Время в черном бездонном колодце никуда не текло, не девалось, не прибывало.
И поэтому мысли не уходили, не приносились другие, а вертелись все те
же: далеко ли до дна? не на погибель ли Велес его послал? и удастся ли,
неужели удастся невероятная эта затея?
Вместо времени здесь бежала вода - там и тут звенящими струйками, а то
и на голову вдруг обрушивалась - подземная, ледяная. Жар каждый раз от
этого вскрикивал, а кто-то из нечисти - кажется, все-таки Шня, - следом
насмешливо фыркал. И ведь не цыкнешь, за жабры не схватишь! Потому что
нечисть выше Жара ползла - потому что он пламенем путь освещал. Пустит
вниз пару огненных струек и уже хоть немного ясней, куда ставить заднюю
лапу. И еще ведь болело бедро. Наконечник копья ушел из него вместе с
линькой, а вот память в теле осталась. Только вздрогнет на скользком камне
ладонь, только уйдет из под задней лапы уступ, и вместе со страхом, боль
в бедро возвращалась. Но уж лучше было о боли думать, даже о людях, его
предавших, даже о Ягде ему прокричавшей ему: "Не муж ты мне и никто!"
- чем с ужасом понимать: не будет у этой бездны конца, выдумал Велес,
нет никакого Нижнего моря!
И тут мимо Жара с тоненьким писком нечисть вниз пронеслась - оступилась,
должно быть. И вот летела теперь, верещала... Но длилось это недолго.
Снизу послышалось вдруг: хлобысть! Но не о камень хлобысть, а шумно и
хлестко - о воду. И прочая нечисть тоже это расслышала, залепетала:
- Скоро! Скоро уже!
- Цыть, позорные! - шепотом крикнул Жар. - Ведь разбудим же!
Потому что лаз этот прямо к пещере Дажьбога вел. Потому что Велес велел
в тишине ползти, не шептаться. Но сверху опять долетело:
- Давай тоже! И мы!
- Я боюсь!
- А зажмурься!
И с тоненьким визгом возле него пронеслись - все четыре. Он их по плескам
считал: плюх, плюх, плюх... И опять же: хлобысть!
А когда обернулся Жар, чтобы вниз посмотреть, - точно, воду увидел. Темную,
но не черную! Это Велес его научил: если будет вода хоть немного светлеть
- а она всё светлей и светлей становилась! - значит, скоро в пещеру примчится
Дажьбог - после долгого дня отдохнуть.
И еще посветлело немного вокруг. И нога - или все-таки задняя лапа? -
от волнения соскользнула с уступа и тоже вниз - в хлесткую воду его увлекла.
 |
1
Чужое чужому рознь! Да и не были им ладейные люди совсем уж чужими, если
Мила, родная сестра Родовитова деда, замуж к людям ладейным ушла. И, значит,
детей родила. И внуки ее, а может быть, уже правнуки даже - вот они, в
чудной ладье к ним приплыли. А то почему бы еще самый славный из них был
не с белыми волосами, а с русыми? А другой был и ростом, и голосом, и
повадкой, на кузнеца их, Силу, похож. А третий вообще их слова понимал
- значит, Мила его научила! И при князе он был его правой рукой, говорил:
"Зтой! Кудйа? Пропузтьи! Этйа кньязь!" - потому что в тумане,
конечно, столпились люди, шеи тянули, а то и толкали друг друга. Как на
ладейного князя было не посмотреть? И до чего же видным он оказался. Ростом
был чуть не с Жара! А лицом и улыбкой совсем человек, разве шлем на нем
был не такой, как на всех, а клейменный двумя топорами и птицей. Жалко
только, что очень он быстро с Родовитом вместе ушел. И еще со вторым из
ладейных - люди так его и прозвали: Зтой-Кудйа.
А когда разошелся туман, вот тогда они остальных разглядели - пока те
место себе для стоянки ходили искать - и по Селищу, и вокруг по полянам.
А потом еще к лесу пошли, веток еловых себе нарубили, а потом на высокий
берег вернулись и стали на нем шалаши возводить. Должно быть, поближе
к ладье своей быть хотели - и ночью, и днем.
Только речь их чужая немного смущала людей. И что сами они высокие очень
и получается так, что все время сверху глядят. И что только сложили себе
шалаши, снова в лес без всякого спроса пошли - теперь уже на охоту. А
другие выплыли на середину реки и без спроса свой невод в воду закинули.
Но только и их понять было надо: изголодались, должно быть, в пути. А
Родовит так сказал Ладе с Мамушкой, а за ними уже и все повторять принялись:
это Симаргл, не иначе, людей ладейный прислал. Потому-то они и воины все
на подбор! Потому-то, чтоб были они невредимы, Симаргл их ладью своим
облаком скрыл, будто птенчика - белым яйцом. Одна Ягда этому не поверила.
Не будет, сказала, Симаргл против воли ей жениха присылать! А она его
не об этом совсем просила.
И до чего же смышленая девушка Ягда была - Зайцу тоже ведь не поверила,
будто Кащей уже никогда не вернется. Хотя Заяц ей и оберег показал, и
сказал, что нашли его возле пещеры, где Коловул и Лихо живут, где и другие
волки стаями бродят, - и не соврал ведь почти! - а только после нашла
Ягда Утку и его всё заставила повторить: где нашли, как, кто первым увидел,
утро ли было, вечер, дождик ли шел... Послушала Ягда Утку да и сказала:
"В другой раз когда врать соберетесь, вы между собой сговоритесь
сначала!" А потом еще, к вечеру ближе, нарочно Утку у шалашей ладейных
нашла, отозвала в сторонку, спросила:
- Ты Щуку любишь?
- Нет, - сказал и глаза опустил. - Щуку нет... Ее не люблю.
- Вот и славно! Когда стану княгиней, непременно на Щуке тебя женю!
Покраснел Утка с конопушками вместе:
- Это, Ягда, как боги скажут...
- А вот так вот и скажут! - и рукой стала в воздухе посох искать, а когда
не нашла его, то ногой ударила оземь. И потом заметила только, что ладейный
жених на нее стоит и глядит. Не глядит, сразу видно - любуется ею, потому
что во гневе Ягда еще лучше была. И глаза у нее, и щеки еще ярче горели,
а уж волосы вихрились и разбегались, будто поле спелое на ветру.
Это Мамушка гостя к ней привела. Поклонилась, точно уже княгине, сказала:
- Ягодка, не откажи! Князь-отец тебе очень уж просит князю ладейному,
Инвару, Селище показать.
- Инвару... Зелижче... - так повторил, и зубы свои большущие показал.
Полон рот у Инвара зубов оказался. Подумала Ягда: лучше бы не улыбался,
- а словами сказала:
- Зелижче? Покаджу!
И Мамушка лицо руками прикрыла, потому что нехорошо это было - при госте
смеяться. И Утке с Зайцем было это нехорошо. А только прыснули оба. И
Инвар от этого тоже развеселился, в ответ еще больше зубов показал.
Ну и ладно, подумала Ягда, отчего бы в самом-то деле человеку из такого
уж далека, который и море своими глазами видел, а Селища вот не видел
ни разу, родного селения не показать? И повела его - Утка с Зайцем, конечно,
следом за ними пошли - к кузнице для начала:
- Это - кузница! - и рукою взмахнула. - Ее первый огонь бог Сварог раздувал!
- потом дальше, к дому Дара пошли. - Здесь живет старый Дар. Он гончар.
Его пращура сам Симаргл горшки лепить научил! - а когда до Лясова дома
дошли, старику поклонилась: - А это - сказитель наш, Ляс. Правым глазом
он видит богов. Если он не поет, то боги скучают. А люди не помнят, для
чего и живут.
- Длья! Чьего! - улыбнулся ей Инвар и волосы Ягдины тронул. - Ягда...
Ваша нивиэста. Инвар и Ягда! - и руки не убрал.
И тогда Ягда тоже сделала вид, что хочет князя погладить. Коснулась его
бороды да вдруг и вырвала белую прядь.
- И-у! - больно Инвару было. Так за щеку схватился, точно зуб у него заболел.
А Ягда прядь его намотала на палец и громко, никого не стесняясь, сказала:
- Разрази тебя лихоманка, как Перун Велеса разразил!
Испугались Утка и Заяц, что обидится гость. А ладейный князь, лишь прошла
его боль, еще ласковее на Ягду взглянул. Он-то подумал: такой у здешних
людей обычай - волосами перед свадьбой меняться. Подошел к ней поближе
и дернул из косы волосок.
Чем бы кончилось всё, не ударь Ляс по струнам? Оттолкнула бы Ягда гостя,
убежала бы прочь - что напрасно гадать? Ляс на крыше, под низким небом
сидел - тесно стало словам между Лясом и небом, так запел он - и дрогнуло
сердце у Ягды, а ноги в землю будто вросли.
- Не пожалеют боги человека,
Когда надумают его образумить.
И человек богов не пожалеет,
Когда запретного достичь захочет.
У Перуна - черные кони.
У Дажьбога - белые кони.
Отчего они бегут по кругу?
Люди даже этого не знают.
А достичь запретного стремятся.
И в пути себя самих теряют.
Слезы стояли в глазах у Ягды. Инвар подумал: да, печальную песню спел
им старик - о том, должно быть, как грустно невесте с подругами расставаться.
На своем языке он таких песен несколько знал. А Утка с Зайцем переглянулись
и плечами пожали: и о чем была эта песня - одному Лясу известно.
А Роска, жена Калины, стирала одежду в реке - оглянулась с мостков, нет,
подумала, не про нее это песня. Она не запретного хочет, а того лишь,
чтобы у них с Калиной сын родился смышленым и смелым.
Только Ягда одна угадала: о ней, о Кащее поет старик. И еще угадала: значит,
жив Кащей, точно жив! И к отцу побежала - Инвар, Утка и Заяц удивленно
ей вслед смотрели - не пылили сырая дорога, скорее, бежать не давала.
А Ягда назло ей бежала, чтобы отцу так сказать: "Погостили и честь
знать пора! Я не невеста ладейному князю! А он мне тем более не жених!
Ты же сам дал слово Кащею! И потом: как же яблоки? Как же твоя вечная
жизнь?!"
Только знала, что Родовит ей ответит - что Кащей не вернется, что Заяц
и Утка тому доказательство твердое привезли... И споткнулась. И на дороге
возле Удалова дома упала. В самую грязь угодила со своей душегреечкой
вместе, которую еще Лиска, княгиня, сшила и нарядным узором украсила...
И подумала: вот ведь какая примета плохая! Но плакать себе запретила.
А Яся уже со двора ей бежала помочь.
2
Когда рыжий клубок, который Фефилой казался, вдруг рассыпался комом пожухлой
листвы, когда черные волны овец Степунка со всех сторон окружили, а Коловул
с рычанием заметался, загоняя в пещеру овец, - не овец торопил он, врага
своего в ловушку, - оглянулся Кащей, увидел, что Лихо от озера тоже к
нему бежит, и шепнул Степунку:
- Ничего... Не беда! Без испытания не бывает благословения.
И заржал в ответ Степунок. И в голосе его столько тревоги было, что овцы
заблеяли следом и от страха быстрее вперед устремились - и коня, и Кащея
на нем вместе с собой увлекли. А как только они оказались в пещере, в
самом дальнем ее, непроглядном углу, Лихо что же осталось - лишь следом
за ними вбежать, поплевать на свои мозолистые ручищи и в пещеру вход завалить.
Для этого и лежал от входа неподалеку громадный валун.
- Вот, - сказала, - теперь будешь знать, что есть Лихо!
А снаружи Коловул зарычал:
- И что есть Коловул!
А Лихо еще закруглила:
- И что ест Коловул! Кащеев он точно ест!
И близнецы засмеялись. И снова тревожно заржал Степунок. А Кащей вдруг
сказал:
- А я ведь, Лихо, давно встречи с тобой искал!
- С кем? Со мной? - Лихо смех оборвала и лучину от другой, догоравшей
лучины, зажгла.
- Я ведь знаю твою беду...
- Ты - беда моя! - крикнула великанша. - Братьев моих обижал, унижал!
Всё! Не жить тебе больше! - и лучину пока в расщелину каменную вставляла,
говорила: - Беду мне придумал! Ну надо же...
- Не придумал! - и спрыгнул с коня, и чтоб в глаз ей опасный не посмотреть,
стал овец вокруг гладить, им в морды заглядывать. - А беда твоя в том,
что не любит тебя Коловул!
- Ишь! - воскликнула Лихо. - Много ты понимаешь! - и камень с земли подняла.
- Много знаешь ты очень! - и на Кащея с ним двинулась.
- Знаю столько, что и тебя смогу удивить! - торопился Кащей, остановок
между словами не делал. - Знаю даже про те времена, когда вас с Коловулом
еще и на свете не было!
Озадачилась Лихо:
- Да ну? - и на миг идти перестала.
- Про то даже знаю, как выгнал Перун отца своего, Стрибога, из небесного
сада! Прежде всех остальных богов отца родного изгнал - за то, что Стрибог
хотел править вечно. А дети его давно уже подросли.
- Не части! Помедленней говори! - так Лихо сказала и камень свой обронила,
на кучу шерсти уселась. - Ну? Дальше что было?
А Кащей ведь и дальше не хуже знал. Ему Симаргл сколько раз истории эти
рассказывал! Взял Кащей за рога барана, чтобы только барану в глаза смотреть,
и опять рассказывать стал:
- Было так: все Стрибоговы сыновья - и Перун, и Дажьбог, и Велес, - сговорились
между собой и вышли против отца. Изумился Стрибог, закричал: "Что
же, теперь и богу нельзя вечно править?" А только в ответ из лука
Дажьбога уже золотые стрелы неслись, Перуновы молнии серебро уже извергали,
а Велес горящие головни из очага клещами выхватывал и в Стрибога метал!
И не представить теперь, какое сияние тогда дни и ночи в небе стояло!
А когда отца победили, поделили они отцовых коней: Перуну черные с белой
гривой достались - быстрые самые, Дажьбогу - белые, легкие и крылатые,
будто птицы. А Велесу не досталось коней...
- Почему это? - крикнула Лихо.
- И тогда от обиды Велес отцовых коров угнал, сколько было их - целое
стадо!
- И это - по справедливости! Что, скажешь: нет?!
А Кащей - не оглянуться бы только, - еще крепче барана за рога ухватил:
- Будешь мешать, рассказывать перестану!
- Я не мешаю! - обиделась Лихо и, чтобы занять себя чем-то, иглу костяную
на юбке нашла, вынула и подол подшивать себе стала. - Кому я могу тут
мешать? Тихо шью...
- Вот и шей! - так Кащей ей сказал и дальше рассказ свой повел: - Узнал
Перун про коров, которых Велес украл, и стал за коров воевать. А Дажьбог
не то что бы сторону Велеса взял, но и биться с братом родным не хотел.
И за это прогнал Перун его с неба под землю - шесть лун над землей кромешная
ночь стояла - только молнии в ней сверкали, и носился Велес в промозглой
тьме - не видя, не зная, куда же от молний скрыться. Пока лаз в земле
не нашел. И под землю полез.
Горько Лихо вздохнула, но голоса не подала.
- Так и остался Перун один в небесном саду. И Мокошь - сестра ведь у братьев
была, ее Мокошью звали... Сестра, на которую все три брата с надеждой
смотрели, ответного чувства в ее волооких глазах искали... Мокошь тоже
Перуну досталась.
- Не навсегда! Папа наш ее после украл! И тоже по справедливости это!
- И опять за камень взялась. - Ну? Что ли, всё рассказал?
- Вроде всё, - согласился Кащей. - Хотел еще про твою беду... А ты слушать
не хочешь.
- Ну давай. Только быстро. А то Коловул у меня голодный с утра! - и опять
хихикнула грозно.
- Почему так все братья Мокоши домогались?
- И почему?
- А потому что Мокошь два волооких глаза имела! А у тебя он один! Поэтому
и не любит тебя Коловул! И в жены тебя не берет! Хотел я помочь тебе в
этой беде...
Лихо крикнула:
- Как?
- От вола тебе глаз второй переставить...
- Так мне что... за волом сейчас сбегать? - и камень опять из руки уронила.
- За волом далеко. Меня без тебя Коловул задерет...
- Задерет! Неужели не задерет?
- А давай я тебе от коня своего глаз поставлю!
- Больно это, небось!
- Нет, не бойся. Я тебя руки-ноги свяжу.
- Только смотри, чтоб покрепче! - И за веревкой пошла, и рык Коловулов
за камнем услышав, крикнула брату: - А ты охолонь пока. Дело у нас.
И когда с веревкой вернулась, даже глаз свой огромный прикрыла - ничем
не хотела Кащею мешать.
Только, видимо, Коловул почуял недоброе. С рычанием из волка юношей сделался.
- Лихо! Лихо! - и валун стал толкать. - Ты это... Не верь ему! Кащею верить
нельзя!
Встрепенулась от страха Лихо. Огромный свой глаз распахнула. Отшатнулся
Кащей, отвернулся, меч свой выхватил и не глядя, а так, наугад голову
великанше пронзил. И когда уже меч вынимал, только тут и увидел - глаза
единственного Лихо лишилась.
Как же страшно кричала она от ужаса и от боли - дрожь по телу Кащею пошла.
А по пещере бежал уже Коловул. Откатил огромный валун, увидел окровавленный
меч и на Кащея с рычанием ринулся.
Отступил Кащей на полшага, на камень ногою попал. Тут его Лихо ручищей
и ухватила, и хоть связаны были у великанши руки, умудрилась в спину Кащею
иглу свою костяную воткнуть. Боль такая была, словно самое сердце пронзила.
Когда бы не Степунок, плохо Кащею пришлось. Вздыбился конь, заржал и овец,
которые в угол его зажали, теперь на Лихо и Коловолу погнал. Потому и
вырвался из ручищ великанши Кащей. Потому и не смог Коловул до него дотянуться.
Овцы теперь между ними ходили черной плотной волной. А потом закружились
овцы и прочь из пещеры пошли. И Степунок с ними вместе. И Кащей, потому
что успел на коня своего вскочить.
Миг оставался им до желанного освобождения! Вот и пещера была уже позади,
и водопад, вот и озеро впереди заблестело... А только снова волком сделался
Коловул. В три прыжка нагнал Степунка и Кащея зубами с него стащил. Вот
они по земле уже покатились. Чьи руки, чьи когти, чьи зубы сильней? До
меча Кащею было не дотянуться. И тогда он руками схватил и стал разрывать
волчью пасть. Когти могучего волка, казалось, повсюду в тело его впились.
И всё же Кащей пересилил, перетерпел. И вот уже стал от боли сипеть Коловул,
а потом и попискивать, точно волчонок... Пощады, должно быть, просил.
Даже когти в лапы вобрал... И Кащей отпустил его и ногой от себя оттолкнул.
И тогда вдруг услышал: "Финь! Финь! Финь!" - и в небо взглянул
- ну конечно, это была Фефила.
Она сидела на склоне горы так высоко, что казалось - на облаке. В лапах
держала Фефила камень и так настойчиво повторяла: "Финь! Финь-финь-финь!"
- что Кащей наконец ее понял и стал от сипевшего волка из последних сил
отползать. Степунок шел с ним рядом. Иногда подгибал передние ноги. Но
Кащей, истекающий кровью, только гладил коня. Забраться ему на спину у
него уже не было сил.
Должно быть, это обнадежило Коловула. Волк перестал сипеть, из пасти опять
засочилась слюна. И вот он уже подобрался, готовясь к прыжку. Хвост с
торжеством закруглился... И тогда-то с вершины горы вниз ринулся камень
- один, небольшой, но так ловко Фефилой отправленный, что следом за ним
покатились еще и еще. И вот уже два десятка огромных камней легли друг
на друга и встали между Кащеем и волком - стеной. Невысокой, остроугольной.
И пока Коловул размышлял, как ему, обессиленному, будет легче через нее
перебраться, Кащей отдышался... И когда Степунок вновь опустился с ним
рядом, смог - с трудом, а все-таки смог - на него с земли перебраться.
И даже присвистнул негромко:
- Финь! Финь!
И тогда за спиной у него опять начался камнепад. А потом глаза сами закрылись,
только руки привычно сжимали поводья. А потом, должно быть, пришло забытье.
Он не чувствовал даже рук.
4
Вот уже Инвар в дому их сидел. А Родовит и не знал, чем еще его угостить.
Потчевал князя ладейного и перепелом, и куропаткой, и зайцем, и мясо лося
на вертеле для него запекли, и медвежатины в особом, Мамушкой выдуманном
посоле, из погреба для него достали. Жадно ел Инвар - за четверых. И еще
ему помогал Здой-Кудйа. А Ягда с ним рядом сидела. Кусок ей в горло не
шел. Всё казалось, что амулет Кащеев сам собой о чем-то тревожном звенит.
Вот и сидела не шелохнувшись. А только ножики с ноготок все равно как
будто точили себя друг о друга. Накрыла их Ягда ладонью, а они и под нею
дрожали.
Родовит же по-своему это истолковал. Так решил, что смирилась с судьбою
его строптивая дочь. А потом и лучше решил, что это она князю Инвару так
сердечность свою выражает. И пальцем Зайца и Утку к себе подозвал - оба
они в углу для поручений стояли - и шепотом их зачем-то в подпол отправил.
А только вернулись они - от запаха фыркнула Ягда - с тем самым ларцом,
который Жар перед свадьбой из топи принес.
И вот принялся Родовит один за другим из ларца доставать каменья. Таких
драгоценных, большущих таких Инвар в жизни своей не видел, должно быть.
Разгорелись у ладейного князя глаза. И слова на чужом языке теперь из
него вылетали так стремительно, словно крики из птиц. А потом, от волнения
и вовсе забывшись, Ягду жирной рукой за подбородок схватил.
- Ваша нивиэста, - пропел. - Ты-ы-ы!
И в ярости Ягда вскочила:
- Отец! Я умею слышать и те голоса, что внутри! - и не зная, что делать
с яростью дальше, тоже схватила Инвара за подбородок: - Голос, который
таится там, за большими зубами, говорит сейчас: я хочу все шкуры всех
ваших зверей из леса! я хочу всю рыбу из вашей реки! я хочу, чтобы все
ваши боги были у меня на посылках!..
- Замолчи! - зло сказал Родовит. - Сколько прикажешь ждать твоего Кащея?
- Три луны я еще проживу без него... А потом все равно уплыву к Закатной
реке!
Утка с Зайцем стояли, вздохнуть боялись. Здой-Кудйа говорил что-то Инвару
в самое ухо... А Ягда из дома уже бежала, а потом со двора... И когда
к поющей стене прибежала закричала да так, чтобы слышно было в горах:
- Кащей! Я люблю тебя! Я буду ждать тебя всегда-всегда!
И эхо радостно и протяжно умножило этот крик: "Кащей!" И еще
раз: "Кащей!" А следом неслось уже: "Я люблю тебя!"
И еще раз и снова... А после: "Всегда-всегда-всегда!"
И тогда от своих костров, разведенных на берегу, стали ладейные люди к
Ягде сбегаться. Шумно с криком бежали, потому что огнем они только руки
себе согревали, а тела они согревали медовухой и брагой. И мечами своими
стали горшки в стене разбивать. А другие их из стены вырывали сначала,
а потом уже били о землю, а потом и ногами крошили еще.
- Нет! Вы не смеете! - это Ягда кричала и хватала их за руки. - Я здесь
скоро буду княгиней!
Но эхо уже не вторило ей. И голос срывался. Без эха голос хрипел и дрожал,
как без перьев петух.
С вершины обрыва на Ягду Инвар смотрел - с недоброй улыбкой, а потом еще
руку свою на рукоять меча положил. Зтой-Кудйа, должно быть, уже до последнего
слова пересказал ему то, что Ягда отцу за столом прокричала. И голос,
живший у ладейного князя внутри, теперь отвечал ей на это: да, я хочу
и зверей, и каменья, и рыбу, и тебя, непокорную, вздорную и красивую,
тоже хочу, и всё это скоро неминуемо станет моим. А чтобы у Ягды не осталось
в этом сомнений, Инвар поднял обе руки. Это значило: он одобряет своих
людей. И люди его в ответ яростно закричали:
- Инвари! Оле-туоле! - и стали в небо горшечные черепки, подкручивая,
бросать. И с хохотом их старались ловить. А потом и со смехом друг в друга
швыряли.
 |
1
Должно быть, это ему приснилось - будто ветер голос Ягды принес, но слов
он не разобрал, а только в их звуках тревогу расслышал... А когда он открыл
глаза, вокруг него были снежные шапки гор. Он лежал на ковре из пестрого
мха, а чуть ниже петлял и прыгал с камня на камень ручей. Не иначе, в
это тихое место его принес Степунок... А когда привстал на локтях, вдруг
увидел Симаргла. Юный бог от ручья нес воду в ладонях. А потом этой колкой
водой Кащеевы раны омыл. А потом - ведь откуда-то знал про нее! - вытянул
из-под левой лопатки костяную иглу.
"Почему мне совсем не больно?" - удивился Кащей и увидел, что
раны - они ведь только что еще ныли - почти затянулись.
"Потому что помочь я могу тебе только этим", - без обычной своей
улыбки ответил Симаргл.
Мягкий свет, всегда от него исходивший, был сегодня чуть сумрачней.
"Ягде что-то грозит?" - догадался Кащей. И ее оберега на груди
не найдя, закричал уже голосом:
- Ягде что-то грозит?
И испуганно сел. И увидел неподалеку, на камне, Фефилу. Зверек делал вид,
что разгрызает шиповник, что их разговора не слышит... Но ушки Фефилы
поникли, а кончик хвоста тревожно по камню петлял.
"То, что грозит человеку, живет у него внутри", - тихо сказал
Симаргл.
"Внутри?" - удивился Кащей и еще раз взглянул на чудом зажившие
раны.
"Здесь! - юный бог коснулся его груди. - Где обитает твоя решимость".
"Сорвать небесные яблоки?" - честно спросил Кащей.
"Нарушить запреты богов", - кивнул Симаргл.
"Да. Да! Нарушить! Но ты же меня не выдашь?" - и Кащей улыбнулся.
"Человеку нельзя вечно жить на земле!"
"Почему?!"
"Потому что он перестанет быть человеком! Потому что в его глазах
будет больше холода, чем..."
"Но Симаргл! - силы мальчика прибывали так быстро, что на месте было
не усидеть: - Ты же всегда меня понимал!" - и поднял с земли свой
меч, и обрадовался тому, как снова крепка рука. И поднес меч к губам.
И лицо его отразило сияние. И в сиянии отразилось. Что-то было в синих
его глазах, чего он и в самом деле не помнил в них прежде... Но Ягда ждала.
И раздумывать лишний миг было уже нельзя.
- Неужели это так трудно понять? - крикнул он голосом и губами. - Ягда
хочет не вечно жить, а вечно любить! Как никто! Как еще никогда!
"И ты тоже этого хочешь?"
Кащей заходил по мягкой, мшистой поляне, нога утопала в ней, словно мысль
в этом мучительном разговоре.
- Да, хочу! - закричал, только бы поскорее его прекратить.
"Когда любишь, уже прикасаешься к вечности".
- Прикасаешься?! - губы Кащея растянула усмешка.
"Хорошо, я скажу. Не хотел говорить, но скажу, - голос юного бога
стал звенящ и прозрачен. - Ты уже живешь после жизни. Этот мох - он впитал
едва ли не всю твою кровь!"
"Ты вернул меня к жизни?" - обернулся Кащей.
"Да... Я снова нарушил клятву не вмешиваться в твою судьбу".
- Симаргл! - Кащей растерялся, но лишь на мгновение. - Я потом смогу тебя
как-то отблагодарить?
"Вернись на землю. Сейчас. Ты сейчас нужен Ягде!"
- Отступившийся? Ничего не сумевший? Такой я не нужен даже себе самому!
- и свистом позвал Степунка.
Но первой на свист подбежала Фефила. В ее рыжих глазах как будто была
мольба, а в пятипалой раскрытой лапе лежала красная, островерхая ягода,
словно капелька крови, словно Фефила хотела ему сказать - но что? - что
шиповник много вкуснее небесных яблок?
А потом от ручья прибежал Степунок. И Кащей так легко вскочил на него,
что снова с волнением обернулся:
- Я твой вечный должник! Симаргл! Слышишь? Вечный!
И Фефила, виновато взглянув на Симаргла, побежала их догонять.
Юный бог, обхватив колени, неотрывно смотрел им вслед. "Я ему не
сказал! Почему я ему не сказал? Есть клятвы бессмысленные, беспощадные,
вздорные - есть клятвы, которые следует нарушать!" - а рука его гладила
и сжимала нежный мох, а потом ершистый и ломкий ягель, пока не нашла костяную
иглу. В пальцах бога была она разве чуть больше соринки. Но он не отбросил
ее, не сдул. Ведь это была игла, в которой еще миг назад жила смерть этого
маленького и упрямого храбреца - смерть, пронзившая его прямо в сердце.
2
То, что ладейные люди возле леса поймали овцу, кудрявую, черную, то и
дело "бе" говорящую - которую он Перуну и Мокоши в жертву предназначал!
- и сказали, что к свадьбе ее зарежут, - это стерпел еще Родовит. Сходил
на капище, попросил у богов прощения... Но когда Здой-Кудйа и еще трое
беловолосых убитого вепря из леса мимо дома его понесли, от ужаса онемел
старый князь. Стоял, за посох держался.
- Пра... пра... - как рыба на сковородке, рот бессмысленно открывал.
И вот уже люди его, увидевши это, к дому княжескому сбегаться стали:
- Пращура нашего!
- Ладейные! Изверги!
- Князь-отец! Что творят?
- Убили!
И вот так друг за другом все селение в княжеский двор прибежало. Тесно
встали, попятился Родовит от их гнева. На крыльцо высокое поднялся. А
люди не унимались, кричали:
- Козу увели!
- Двух кур унесли!
- Чем они степняков-то лучше?
- Пусть свадьбу справляют уже наконец и уплывают обратно! - это Корень
кричал, а Калина:
- Корову у них вчера еле с братом отбили!
- Вы-то - корову! А мы - Владу, сестру!
И Роска вдруг - громче всех:
- Терпения, князь-отец, больше нашего нету!
Ягда в доме таилась. Их крики про свадьбу услышала и ждала теперь, что
же скажет отец.
Молчал Родовит. Смотрел на людей своих, на их ярость и лиц знакомых будто
не узнавал. А люди его все отчаяннее кричали:
- Волю богов знать хотим! - это Дар от плетня.
И Яся - уже от крыльца:
- Боимся! Что нам за пращура будет!
И Удал рядом с ней незнакомо шею набычил:
- Пусть про свадьбу ответят! Благословляют они или нет!
- Или зря мы ладейных-то кормим! - это Сила сказал.
И вот уже на крыльцо вступили. И вот уже руки к старому князю стали тянуть
- никогда еще не было среди них самовольства такого! - к Перунову дубу
Родовита решили нести, потому что их князь давно в него не входил - у
Перуна и Мокоши ответов не спрашивал. Это Удал кузнецу говорил! И еще:
- На берег носили его? А теперь и к богам отнесем!
Прижался к двери своей Родовит, княжеский посох, как меч, вперед выставил.
Уж его-то они не посмеют коснуться.
- Прочь с крыльца! - закричал.
И попятились Сила с Удалом.
- Я пока еще у вас князь! Мне решать, когда вопрошать богов и о чем! -
и с яростью посохом о крыльцо ударил. Потому что люди его этот звук после
грома небесного над собою главным считали.
Вот и сейчас смутились и отступили немного:
- Прости, князь-отец!
- Свадьбе быть! - не сказал, проорал. - Боги только и ждут этой свадьбы!
И жертвы невиданной ждут! Сердце вепря - лучшая жертва богам!
И решил про себя, если спросят: разве можно вепря нам убивать? - скажет
так: нам нельзя, а чужим он - не пращур.
Нет, молчали в смятении люди. И когда со двора расходились, потому что
он крикнул им: "Или дел у вас нет по дворам? Или на свадьбу с пустыми
руками придете?" - не улыбались друг другу, как прежде, не говорили,
ликуя: "Боги не сердятся! Боги простили!" И не били друг друга
в ладоши. Молча шли и понуро. Прежде такими не знал людей своих Родовит.
Но и себя ведь такого, который с богами говорить избегает - из-за мальчишки,
из-за степняшки какого-то, потому лишь, что слабость имел за яблоками
его небесными отослать - и себя ведь такого не знал старый князь.
Стоял на крыльце, в дом войти не решался. В дому его Ягда ждала. Наверняка
ведь про свадьбу расслышала, не могла не расслышать - и что же теперь,
сядет в лодку-долбленку и вниз по реке уплывет? Или в лес убежит и там
в яме жить станет? Маленькой, она ведь в яме звериной ждать своего Кащея
хотела. И тогда уже ничего не боялась. А теперь одна Мокошь лишь ведает,
что еще его дочь учудит.
И, легка на помине, Ягда дверь дома толкнула - так толкнула, когда бы
не посох, с крыльца улетел Родовит. А другой рукой он еще за перила схватился.
Стоял, дыхание ловил - уходило и не сразу к нему возвращалось дыхание.
Так и дети, подумал вдруг, выдыхаешь их, дышишь ими с такою радостью и
любовью, а они... а она - вот куда она унеслась?
А вскоре уже и увидел - по берегу Ягда ходила, горшечные черепки, которые
от стены поющей остались, с земли поднимала, разглядывала, бросала, другие
с земли брала... А потом вдруг черные пятна, как осы, если близко к гнезду
подойти, зароились перед глазами, ухватился за дверь Родовит:
- Мамушка! Мамушка! - крикнул. И, уже на нее опираясь, до постели своей
дошел. - Скоро свадьбе быть, - так сказал. - Что там есть у меня в сундуке
понарядней?
3
Что знали люди про Нижнее море? Была ли вода в нем пресной, солоноватой
или, быть может, соленой настолько, что лучистая белая кромка, которая
солнечный щит окружала, именно солью этой была? Не знали, спорили люди.
Кончалось ли Нижнее море хоть где-нибудь, хоть одной из своих сторон и,
если кончалось, то где? Склонялись к тому, что нигде не кончалось. А рыбы
в этом море водились? А может быть, в нем водились иные, диковинные, на
земле неведомые существа? О том не знали люди, терялись в догадках. А
штормы, а ураганы, по этому морю носились? Всего вероятнее, нет, - так
считали, - а иначе, как бы ладья Дажьбога всякую ночь благополучно его
миновала! Вернее про Нижнее море сказать: всякий день. Ведь когда на земле
наступала тьма, волны Нижнего моря освещались щитом Дажьбога - и как!
- сверкали в них, полыхали, горели. Когда бы у трех крылатых коней от
трудного дня не слипались глаза, кто знает, не слепотой ли для них обернулось
безудержное это сияние? Но кони давно уже по привычке несли к пещере ладью
- от усталости смежив веки. Накрывшийся лучезарным щитом в ладье бестревожно
дремал Дажьбог.
Жару главное убедиться было, что - бестревожно. Ради этого три лишних
дня он в воде просидел, за громадным камнем таясь. Повадки коней наблюдал,
привычки Дажьбога, но всякий раз повторялось всё то же: ладья заплывала
в пещеру, Дажьбог распрягал коней, и кони, точно белые птицы, вымахивали
из пещеры, а что было дальше, только по шуму их крыльев и звону копыт
угадать было можно. И Жару мерещилось: вот они плавно кружат над морем,
вот бьют копытами о скалу, а вот уже и увесисто располагаются на уступах,
что-то щиплют там и, жуя, засыпают.
И тогда Жар выглядывал из-за камня, и к сиянью щита привыкал. И мучительно
думал: когда, в какой миг ему лучше всего начинать - когда сон Дажьбога
наиболее крепок или все-таки утром, потому что крылатые кони утром снова
будут запряжены? А потом его мысль уносилась к небесному саду. И к тому,
как недолго теперь оставалось до власти над миром, над Ягдой, над Родовитом,
над теми, кто стрелы в него пускал, над тем, кто копьем в него угодил
- до власти и мести им всем - мучительной, медленной, беспощадной. И от
нетерпения ронял слюну, и сощуренным взглядом к щиту Дажьбога примеривался.
4
Лада и Щука не знали, зачем они делают это: топят воск на огне и в него
отжимают из клюквы сок. Это Ягда велела им ровно столько сока отжать,
чтобы цвет у горячего этого варева получился, как будто у спелого яблока.
Сама она тут же, в углу сарая, сидела, с черепками разбитых горшков возилась.
Подбирала их с пола, прикладывала друг к другу, отбрасывала, новые черепки
находила и ни слова не говорила. Только палочкой вдруг брала у них воска
немного и склеить старалась два черепка. И Ладу просила тогда наговор
сотворить - на любовь наговор этот говорится! - чтобы как две нити в одну
сплелись, так две судьбы в одну слились... И еще от себя добавляла: "И
два черепка друг с другом срослись!" Переглядывалась Щука и Лада,
ничего понять не могли. А спросить не решались - уж такою решимостью полыхало
у Ягды лицо.
А как только понравился Ягде цвет, который из воска и сока у них получился:
"Всё, хватит!" - сказала и из сарая их погнала. Только прежде
клятву взяла у них - страшную клятву - если проговорятся, чем занимались,
- а чем? они и не знали ведь, чем! - всё равно, что им будет за это, и
их детям, и внукам тоже: всех раздерет Коловул, а Велес их клочья в топь
утащит.
Звезды на небе уже горели, когда Лада и Щука во двор на цыпочках вышли.
Увидели звезды, и показалось им: это глаза Коловула отовсюду за ними следят.
Увидели в небе луну и охнули - будто вперилась в них сестра его, великанша.
И домой уже без оглядки бежали. И песни, которые от ладейных костров над
селением неслись, тоже им воем волка казались.
А Ягде только того и хотелось. И еще - чтобы никто ей теперь не мешал.
Взяла с огня ковшик, налила горячего красноватого воска в небольшой округлый
горшочек, который в конце концов из пяти черепков слепила... Воску дала
хорошенько остыть - от нетерпения золотой амулет к горячим щекам прижимая,
и к губам, и ко лбу, - а когда воск застыл наконец, с волнением от него
черепки отломила... И всё получилось! У нее на ладони лежало красное,
круглое яблоко. Только швы чуть-чуть затереть, а потом черенок в него
вставить! И за новое яблоко принялась. И сказала:
- Симаргл! Помоги!
5
Звезды и над горами уже висели. А Кащей ни коню, ни себе отдыха не давал.
Всё уже и уже становилась тропа, всё отвеснее громоздились над нею скалы.
Кащей впереди теперь шел, Степунка за собою тащил - уставать стал прежде
неутомимый конь, не привык он к горам, все четыре ноги в камень мог упереть
и - ни шагу! А третьей за ними Фефила плелась, а где и карабкалась, а
где и опасливо прыгала с камня на камень. Бездна рядом всё время чернела.
А за первым же перевалом открывался тот самый, заветный уступ, по которому
- если тесно к скале прижиматься, потому что он был не шире ступни, -
можно было за день до утеса добраться. А за этим утесом сад небесный и
был. Он этим утесом и начинался. И вздохнула Фефила, потому что устала,
как никогда. И увидела прямо перед собою: в расщелину угодила нога Степунка
и застряла в ней. А потом вдруг рванулась, поскользнулась на камне, поползла
по тропе... Потерял равновесие Степунок, и уже второе его копыто прямо
к бездне скользило. Передние ноги рванулись, и тело рванулось от пропасти
- прочь, ввысь - судорогой всех жил. И Кащей уже спохватился - что было
силы коня за поводья тащил. А только задние ноги над бездной уже повисли.
Но и тогда удержать коня своего пытался Кащей, от усилия криком зайдясь.
Еще миг - и вместе с конем в пропасть Кащей бы летел... И - коня отпустил.
И пока его ржание над горами стояло - эхо длило и длило его - ни звука,
ни вздоха Кащей не исторг.
А потом стало тихо - так тихо, что слышно было, как на Фефиле шерстка
дрожит. И Кащей ей сказал:
- Он был лучшим конем на свете.
А Фефила смогла наконец вздохнуть горячо, с завыванием, и уселась на камень,
и лапками голову обхватила. И тогда Кащей тоже сел. И сказал, чтобы вдруг
не заплакать:
- Он только ростом не вышел. Потому и достался когда-то мне.
А Фефила снова вздохнула, пересела поближе и прижалась к Кащею.
- У отца было двести сорок коней. И сто кобылиц. - Он гладил ей шерстку.
И пальцы его дрожали. - Степунка тогда звали еще Нэнгиер, а его отца -
Нэнгиеркан, а его мать - Алтэмаур, и она была дочерью Алтуркана Несравненного,
на котором мой дед обходил всех других скакунов. А погиб Алутркан, когда
дед захотел перепрыгнуть на нем через очень высокий костер. И не смог,
отступил, разогнался и снова не смог! И сердце коня разорвалось, оно не
вынесло этого. Нэнгиер... Степунок... Он погиб потому же? Я хотел от него
невозможного! Да?
А Фефила вдруг поднялась, как будто бы даже встала на цыпочки, и посмотрела
Кащею в глаза.
- Я хочу невозможного и от тебя? Ты должна возвращаться? - и спрятал лицо
в ее шерстке. - Ты - лучший на свете зверь. Добрый, верный и храбрый.
- Финь! Финь! Финь! - отозвалась Фефила.
А Кащей и не знал, что свист может полниться нежностью и тоской.
 |
1
Вот еще один непростой вопрос: долго ли может прожить человек, не разговаривая
со своими богами? Разве само вещество человеческой жизни этим молчанием
не истребится? И не лучше ли с самой горькой, постыдной правдой к своим
богам обратиться? Вот о чем размышлял Родовит. А сил встать с постели
и к Перунову дубу двинуться не было.
Ночь стояла, холодная, ясная. Через окошко луна белоглазо смотрела, когда
скрипнула дверь, а потом половица. Это Ягда к постели его подошла.
- Спишь? Не спишь? - и голос волнение выдал.
- Не сплю, - сказал Родовит и посох глазами нашел. Всегда ему было спокойней,
если посох был рядом.
- Отец! Фефила вернулась! - так Ягда сказала. - Она раньше Кащея...Что-то,
видно, его задержало! - и вдруг протянула к нему две руки, и в каждой
лежало по красному яблоку.
В лунном ли свете они так лучились, сами ли исторгали неяркий свой свет?
От изумления сел Родовит... И чтобы к яблокам тут же не потянуться, княжеский
перстень на пальце своем ухватил - тот самый перстень, по которому Инвар
родню в них признал и от самого моря к ним прибыл.
- Ну же, отец! - и Ягда немного попятилась. - Видишь? Кащей всё исполнил!
Теперь свою клятву должен сдержать и ты!
- Я не клялся ему ни богами, ни пращурами, - так сказал Родовит, взгляда
от яблок не отводя, а пальцев не отнимая от перстня. - Он степняшка! Он
тебе не жених! А внукам вепря не князь!
- Ты не хочешь бессмертия? - и спрятала яблоки за спину, и увидев, как
судорожно сглотнул Родовит, усмехнулась: - Я знаю, ты хочешь!
- Где Фефила? - вдруг крикнул князь.
- Убежала, - Ягда пожала плечами.
- А где Кащей? Или боги его уже покарали?! - Дотянувшись до посоха, Родовит
охнул, скрючился, снова охнул, а все-таки поднялся.
- Отец! Прогони ладейного князя! - ее голос дрожал, а с ним и ладони,
а с ними вместе и яблоки, и покачивались, и краснобоко мерцали. - Отец!
Ты же сам отправил Кащея за ними!
- Я устал... я очень устал жить, - вдруг сказал Родовит так просто, так
тихо, словно себе самому.
И Ягда поверила. И от отчаяния, от бессмысленности всех их с Кащеем стараний
забылась, стиснула яблоки - пальцы стали крошить мягкий воск - закричала:
- Он всё равно меня украдет! И у тебя украдет! И у ладейного жениха украдет!
- и выбежала из дома.
2
Хлобысть, Волокуша и Тыря были все на одно лицо, только зеленые бородавки
росли у них в разных местах - так друг друга они, должно быть, и различали
- а Жар, как и прежде, не мог... И не знал, и в сомнениях терялся, кого
же потом к ответу призвать, кого взять за шкирку и Велесу предъявить!
То ли Тыря, то ли Хлобысть, а может быть, и Волокуша - с тремя бородавками
возле дырочек носа - Жару твердо сказала:
- Мы подсмотрели! Мы поняли, как коней запрягать!
Жар спросил еще:
- Точно ли поняли?!
И на это уже закивали все трое. И которая с бородавками возле выпученных
зеленых глаз, так сказала:
- Ты главное - заглотни! Про остальное не думай!
И Жар им поверил. Конечно, на спящего нападать - безопасней. И выглянул
из-за камня. От нестерпимого света зажмурился. И на запах, на ощупь к
ладье небыстро пошел - чтобы плеском Дажьбога не разбудить. И пока пробирался,
пасть руками тянул - вниз и вверх, и во все возможные стороны. А когда
острый свет и сквозь веки уже совсем нестерпимо ударил, догадался - пора.
И солнечный щит когтями нашел и стал на него свою пасть потихоньку натягивать.
И в пещере от этого делалось, видимо, всё темней и темней, потому что
дрогнули Жаровы веки и сами собою раскрылись. И глаза на дне неглубокой
ладьи спящего бога нашли. В белых одеждах он был, с золотыми кудрями,
но главное - не такой уж большой, как это в ярком свете казалось. И поднатужился
Жар, щит получше в себя заглотнул... И губами сначала одежды втянул, а
потом и Дажьбога всего, и руками еще поглубже в глотку засунул.
Всё померкло вокруг. Лишь из Жаровой пасти теперь пробивался слабый свет.
И тогда Шня и Лохма радостно заверещали:
- Велес! Велес! У нас всё готово!
И что-то громадное, грузное показалось из лаза, и шмякнулось в воду, и
весело закричало:
- Не вижу! А ну-ка, сынок, посвети!
И Жар тогда снова открыл свою пасть. И в ослепительно хлынувшем свете
увидел: вот отец широко идет по воде и решительно залезает в ладью, вот
нечисть откуда-то сверху, со скал, с криками гонит сонных коней... Белые
кони мечутся по пещере, крыльями задевая то камни, то воду. Велес кричит:
- Шня! Хлобысть! Запрягай!
А нечисть носится по воде, выспрашивая друг у друга:
- А упряжь? Где упряжь?
- Главное - это узда и удила!
- Знаю и без тебя!
- Ну так где же они?
А кони с тревожным ржанием уже вылетали наружу. И как-то их было над морем,
во тьме кромешной ловить? Велес вздыбился, ухватил одного за копыто:
- Тпру! Стоять! - и коня на себя потянул. - Всех сейчас прокляну! Всех
лягушками сделаю!
От проглоченного, а еще, должно быть, от страха Жару сделалось нечем дышать.
- Это Тыря, - икая, сказал. - И Хлобысть... и... и... Волокуша! Это их
лягушками надо! - и с испугом подумал: они же и так на лягушек похожи
- кого же тогда в лягушку-то превращать?
И увидел, как быстро и как умело запрягает отец единственного коня. И
хлебнув от икоты пещерной воды, Жар к ладье заспешил. Не умчался бы Велес
один, без него! И на дно деревянной ладьи тяжело повалился.
- Пасть открой! - это Велес ему прокричал. - Может, кони на свет прилетят!
И впадая в дремоту - слишком много пережито было им в эти дни! - Жар зевнул,
на миг захлебнулся светом и в кромешный сон провалился.
3
Ночь стояла над Селищем. И луна закатилась. Только звезды на небе мерцали.
Как сказать, сколько времени в небе стояла ночь, если люди по солнечному
щиту Дажьбога время свое отмеряли? Сто тысяч пустых петушиных криков в
небе стояла ночь. В небе и на земле - сто тысяч напрасных мыков коровьих.
Потому что мычали коровы, давно их было доить пора. Тысячу тысяч криков
в небе стояла ночь:
- Если не ты, кто вдохнет в нас силу? Дажьбог, если не ты...
Все люди на крышах домов стояли. Все дети стояли в своих дворах. Руки
к черному краю неба тянули. Ежились, мерзли, хотя и тулупы из шкур звериных
надели. Страх людей поразил. Сколько страх этот длился? Как время страха
измерить без солнечного щита? И как пережить этот страх, если нету ему
ни конца, ни даже и середины?
Петухи не пели уже, а натужно сипели. И Родовитов голос на крыше был тоже
больше на хриплый шепот похож:
- Если не ты, о, Дажьбог, кто озарит нас светом? Если не я... - так губы
вдруг сами сказали: - То кто же еще во всем виноват? - и осел старый князь
на сухую траву своей крыши, и пальцы его в ней растерянно запетляли.
Знал, всегда это знал Родовит: для того человек между землею и небом поставлен,
чтобы меру хранить - тьмы и света, тепла и мороза, суши и влаги, голода
и избытка, веселья и страха. Своей чистотою хранить и своим послушанием.
А теперь вот нарушилась мера. Не нарушилась - он эту меру разрушил. И
взглянув на людей - будто черные тени уже на том, на другом берегу Закатной
реки, люди его стояли, и руки свои вздымали, и голоса осевшие слали уже
без надежды почти, - прошептал Родовит:
- О Дажьбог, возьми мою жизнь. А им верни жизни!.. - и студеные слезы,
как изморозь по траве, по щекам его побежали. И услышал вдруг:
- Эй, ладейные! Вы куда? - это Мамушка с крыши амбара кричала.
Слух напряг и тогда различил, что по склону ладейные люди бегут. И овцу
с собою уносят - черную, будто ночь.
- Бе, - кричала овца, а потом вопрошала: -Бе? Бе?
Люди же молча в ладью забирались, а другие в Сныпять ее толкали. И вот
уже дружно весла вздымали и воду бурлили.
А люди с домов им кричали вдогонку:
- И нашу беду с собой увозите!
- И больше не возвращайтесь!
- Убили, злодеи, пращура и бежать?!
- Здой-Кудйа! Ты скажи им! Ты всё им скажи!
И вдруг Ягдин голос послышался - радостный, будто нездешний:
- Дажьбог! Пусть они далеко уплывут! Дай нам долгую ночь! Чтобы они не
вернулись!
Рядом с Мамушкой дочка его стояла. Рук молитвенно не тянула - кулачки
к краю неба бросала. Что же выйдет из нее за княгиня? И прикрыл глаза
свои Родовит: что же будет с людьми его без него?
4
Ночь и в небесном саду недвижимо стояла. Долго ли, очень ли долго - как
и сказать, если времени боги не знают? Тысячу криков стояла: "Да
кончится ли когда-нибудь эта ночь?!" - так Мокошь кричала и гребнем
своим золотым по небесной реке проводила. А только видела в черной воде
тьму и тьму.
Тысячу бадей ночь над садом стояла. Из небесной реки воду носил Перун
и на камни ее раскаленные выливал. И из белого пара и черного дыма от
очага тучи делал. Растерян был бесконечностью этой ночи Перун, взбудоражен
и яростен. И в неистовсте в черно-серое месиво дул - густые, грозные улетали
на небо тучи. И опять за водой с серебряною бадьею спешил. И с горечью
думал: так вот что случается, когда люди с богами перестают говорить,
когда молча им жертвы приносят, а советов не ждут, а сердец им не открывают
- меркнет от этого белый свет! И снова на раскаленные камни воду швырял.
И снова к реке небесной спешил:
- Что, Мокошь, совсем ничего не видно?
А Мокошь лицо к воде наклонила так близко, как будто из речки пила. И
вдруг зашептала:
- Велес... Милый! Да это же ты!
- Там - Велес? - воскликнул Перун.
И Мокошь испуганный взгляд от небесной реки подняла:
- Не кричи на меня, - так почему-то сказала. - В этой темени разве что-нибудь
разглядишь? - и плечами пожала, и гребенку мокрую отряхнув, стала волосы
собирать, разгулялись, завились у Мокоши ее волосы медвяные. - Невозможно
такое! Никогда не бывало такого! - а руки держали уже непослушный подол.
- Что такое? Чего не бывало? - и поспешно проверил колчан на боку, и уже
на бегу прокричал:
- Прокачусь-ка с дозором! - и когда очага уже мимо бежал: - Ты и в след
от копытца еще посмотри!
Усмехнулась богиня:
- Еще посмотрю! - и опять над водою склонилась: - Велес, миленький! -
зашептала. - Ты опять за мной, сумасброд? - и смех ее колокольчиком отозвался.
Это олень к небесной реке подбежал и тревожно зафыркал, и копытом о берег
ударил.
- Испугался? Не бойся! - И опять рассмеялась богиня: - Небывалое лишь
поначалу страшит!
5
Он расстался с Фефилой возле этой отвесной стены. По уступу шириною в
ладонь надо было вдоль бездны пройти до утеса - по уступу, который лишь
изредка обрывался. И тогда приходилось карабкаться вверх и с опаской искать
босою ногою опору. Полпути он прошел уже - в полной тьме. А потом на него
вдруг обрушился ливень. Молнии засверкали и загремели так близко, что
от них разом сделалось больно и глазам, и ушам. Он решил: это всё оттого,
что Перун его видит. И уступ, и скалу поливает немилосердно лишь затем,
чтобы он поскользнулся, как Степунок... А потом Кащей запретил себе думать
о Перуне, о Ягде - о чем бы то ни было. Пусть думают руки, пусть думают
ноги, пусть думают кончики пальцев - о камне, о маленьком деревце - ухватиться
ли за него, - о корне, который с ним рядом - надежен ли он...
И грохот послышался где-то над головой. Но не Перуновой колесницы - а
гулкий, сухой, деревянный. И голоса донеслись - с той, другой стороны
ущелья:
- Н-но! Н-но! Задери тебя, Коловул! - незнакомый и грозный. - Ну всё!
Вылезай!
И жалобный, ноющий:
- Я тоже на небо хочу! - этот голос Кащей слышал прежде.
И снова рокочущий:
- Надо было коней ловить! А не дрыхнуть без задних ног! Я кому сказал,
вылезай!
И Жар - потому что Кащей вдруг узнал его - это был голос Жара, гнусаво
запричитал:
- Мы же ехали! Мы же вместе летели... Мы же столько уже пролетели!
- Не летели мы, а тащились! А теперь конь и вовсе устал! Легко ли нести
одному всех троих?!
"Троих? - удивился Кащей. - А кто же там третий? И отчего он молчит?"
А потом тот, рокочущий, видимо, просто вытолкнул Жара на камни и бичом
просвистел, и опять закричал:
- Пасть закрой! Пока по ней не шарахнул Перун!
И тогда Кащей наконец оглянулся: будто солнечный луч вдруг над бездной
сверкнул. И исчез. И во тьме виден был только белый крылатый конь, за
собою ладью уносящий...
"Значит, вот оно что! - с изумлением понял Кащей и снова сказал себе:
-Только не думать. Пусть думают руки и пальцы" - и медленно двинулся
дальше почти по отвесной скале.
 |
1
Даже в родимом сумеречном краю не помнил князь Инвар такой непроглядной
ночи, даже в хмуром, бушующем море - такой отчаянной непогоды. Весла били
не по воде, а по крошеву из дождя, града и тонкого льда, хотя лед еще
прежде вёсел разбивал нос ладьи. Но проходило мгновенье, и снова лед сковывал
реку, и каждый новый рывок давался людям его с неимоверным трудом.
О том, что солнце не стало всходить над этой чужой и враждебной землей
именно в день объявления его свадьбы, Инвар больше не думал. Он истово
верил, что там, над его родными просторами, над каменным домом, где ждут
его старшие братья и мать, солнце встало уже давно - пусть лишь над самым
краем земли - но доброе, теплое, ясноглазое - появилось и осветило милые
сердцу холмы, и морские заливы, а за ними - капища из камней. Надо только
скорее добраться до них! А если лед станет толще, то волоком к дому тащить
ладью. От молний, которые вспыхивали в ночи, так часто, как билось у Инвара
сердце, - сердце ладейного князя билось еще быстрей. И молнии, будто боялись
отстать, загорались всё яростнее и неистовее.
Быть в грозу на воде - ничего нет на свете опаснее этого. Разве Инвар
не знал? Разве люди его не знали? Но никто из них не просил переждать
непогоду в лесу, сложить шалаши, у костров обогреться - все в едином желании
прочь от этой земли устремлялись. И в придачу к ней не хотели ни дичи
в лесу, ни бесценных каменьев, ни красавицы Ягды! И каждому Инвар по бочке
хмеля из погреба выкатить пообещал, если руки их новой силы веслам прибавят.
И чтобы себя подбодрить и грохот неба унять, дружно ответили князю ладейные
люди:
- Суянус витсарис! Инвари! Оле-туоле!
И словно бы в море, волна на борт накатила и бросила людям колкую крошку
в лицо, а люди от этого еще веселей закричали:
- Оле-туоле!
Потому что им вдруг показалось, что вот он, их берег родимый - пять весельных
взмахов осталось. Ну может быть, семь или десять. И ярость их вместе с
радостью новым криком под небо взвилась:
- Тааду ниду! Ниду нуоди!
Из дупла высокого вяза вслед ладейным Фефила смотрела - продрогшая и промокшая
- шерстку лапами перебирала. Крики их слушала, громыханье Перуновой колесницы...
И Ягодкин голос боялась в них различить. И глаза свои рыжие напрягала:
не похитили ли ее девочку чужеземные люди? Потому что ведь Лиска, княгинюшка,
дочку свою кому завещала? Родовиту и ей, длиннохвостому, рыжему, маленькому
зверьку - рожденному искоркой и дыханием бога. А вот: не смогла она детям
помочь! И дрожь волною по шерстке прошла. И выбравшись из дупла, - пусть
ливень, пусть град, ну так что же? - Фефила помчалась по берегу Сныпяти
- так стремительно, будто хотела ее обогнать.
2
Весело было Перуну с дозором нестись. То стрелу ввысь послать, то палицу
вдруг по тучам вприпрыжку пустить. И за край заглянуть, и леса осветить,
донага раздеваемые дождем, и реки, и ручейки, от ливня реками ставшие.
И обратно коней развернуть и увидеть в коротком разрыве небес: белый конь
- почему-то один! - и ладья без Дажьбога. Мрак царил над ладьей. Мрак
и чье-то громадное, волосатое тело. "Велес", - вспомнилось вдруг.
- Велес! Ты? - он уже громыхал, и дыбил коней, и вверх уводил их по тучам,
чтобы было удобнее целить. - Где Дажьбог? Где мой брат?! - и выхватил
из колчана стрелу.
А в ответ лишь тревожно заржал белый конь. И сверкающий бич - обычно Дажьбог
погонял им крылатую тройку - вдруг мелькнул возле самых железных колес,
а потом и коней стал хлестать по ногам, по бокам...
Ужаснулись Перуновы кони чужого бича, так нежданно настигшего их, и в
испуге с места сорвались - так стремительно, что упал громовержец. Палицу
кинуть хотел, не успел - хорошо еще за поводья схватился.
И тогда только Велес свой голос рокочущий подал:
- Вот, Перун! Твой черед наступил охрометь! А потом под землею ослепнуть!
- и на брата бичом замахнулся, и хохот его, будто черные молнии, небо
пронзил.
А Перун поднимался уже, тянул на себя поводья. И вот уже снова в своей
колеснице стоял, и в Велеса целил. И палицу бросил. А только бичом раскрошил
ее Велес на тысячу ослепительных искр. И новую палицу искрошил. И хохот
его до небесного сада донесся:
- Дажьбог повержен! Теперь, Перун, твой черед!
И Мокошь - только бы небывалое это побоище мгновение за мгновением разглядеть
- добежала до самого края небесного сада. И дерево обняла - только бы
смерчем не закружиться:
- О мои боги! - шепнула. - Как вы оба прекрасны! Вечность бы целую только
на вас и смотреть!
И даже шагов за спиной своей не различила - быстрых, скользящих. Это Кащей
по небесным пригоркам к дереву жизни спешил.
3
Если на Селище птицей взглянуть, воробьем, продрогшим, дождем и градом
побитым, - из-под стрехи Лясова дома что же увидеть-то можно? Тьму, которую
то и дело молнии разрывают. И в ярких этих разрывах людей различить, как
тесно они друг к другу прижались, такие же, как и он, - насквозь мокрые,
жалкие, ветром со всех сторон обдуваемые, косым дождем заливаемые. Им
бы под крыши свои поскорее бежать, им бы хлеба с сыром поесть, а что не
доели, то на крыльцо положить! - нет, стоят вокруг Лясова дома, головы
к небу задрали - на молнии неотрывно глядят.
Если на Селище воробьем посмотреть, иного и не увидишь. Даже Ляса на крыше
своей не увидишь, промерзшего до костей, а только про холод давно позабывшего
- рвущего струны гуслей разбухших. Потому не звенели - гудели и ухали
струны. Голос Ляса звенел за себя и за них:
- Вот вторую стрелу в него мечет Перун!
Но хитер и силен еще Велес-бог.
Он бичом ударяет чужих коней,
Под откос колесницу пустить норовит!
И услышав такое, выдыхают с ужасом люди. А дети реветь принимаются. И
Роска, Калины жена, стоит, за большой живот держится и о том горько плачет,
что ей сына рожать, а как же рожать, когда ночь без конца, когда Велес
Перуна вот-вот одолеет!
И Яся не знает, где слезы, где дождь. И Сила с Удалом не знают. И Заяц,
и Утка. И Ягда не знает, - она с ними рядом стоит. Один Ляс в этот миг
знает всё, видит всё. И поет, и струны гулкие треплет:
- Кони в страхе храпят, кони прочь несут
Колесницу железную и ее седока.
Что напрасно о третьей стреле жалеть?
В бездну черную третья стрела легла.
Если на Селище воробьем посмотреть, только рты кричащие в этот миг и увидишь.
- А-а-а! - от ужаса и тоски.
- И-и-и! - от горечи и тревоги.
А если вылететь из-под стрехи - голодно воробью, нет больше мочи терпеть!
- и до княжеского двора, поднатужившись, среди ливня пробиться - и под
стреху амбара влететь... Оглянуться на чавканье мокрой земли и увидеть:
неспешно идет по двору Родовит - а только нестрашный он, потому что усталый
и старый, и пусть себе мимо идет - и заветную щелочку наконец отыскать
и юркнуть в нее, и забыться в тепле... Но от голода забудешься разве?
И сначала зарыться в зерно, его уймища здесь, и наесться им до икоты,
а тогда уж забыться... А только и от икоты забудешься разве? И вылететь
в ночь, и по старой привычке к реке полететь - чтоб у берега, между досок
мостков, немного воды поклевать... И увидеть такое - это даже и воробью
диковинным показалось - как посох в высокий берег воткнув, старый князь
вниз по мокрому склону съезжает - так дети зимою по снегу на досках и
на дощечках скользят - а он вот по грязи... И входит в разбухшую реку.
Входит и говорит:
- О мои боги! Я - ваш человек, - и руками тонкий лед разбивает. - Перуна
и Мокоши человек. Дажьбога, Сварога, Симаргла, Стрибога и Велеса, - и
плечами теснит уже ломкий лед, и, прежде чем в Сныпяти скрыться совсем,
так еще говорит: - Быть может, о боги, эта жертва смягчит вас...
Слов негромких не различал воробей, а всё-таки над мостками взвился и
понял: он ужасное видел сейчас! И людям весть об этом понес, и еще дорогою
верещал:
- Чирк! Чирк! Чирк! - и когда до людей долетел тоже: - Чирк! - закричал
им. - Чирик!
Но потерялся голос его в человеческом шуме.
Ляс не пел уже, Ляс гремел:
- Лишь девятой стреле врага поразить.
И люди стенали в ответ:
- Перун! Возьми нашу силу!
А Ляс - уже громче грома ревел:
- Вот по небу летит она, брызжа огнем...
А люди, уже и не слушая дальше:
- Хвала Перуну!
- Перуну слава!
И от гомона этого неумолчного воробей опять под Лясову стреху забился
- раз не нужна была людям его ужасная весть - раз у них радость случилась
всех страшных вестей поважнее. И нахохлился. И в крыло сытым клювом уткнулся.
И сквозь сон еще слышал:
- Хвала и слава тебе, Перун!
4
- А-а-а! - это Мокошь кричала, как Мамушка или Щука могли на земле закричать.
А она у края небесного сада стояла, а всё равно: - А-а-а! - кричала и
следом от ужаса: - И-и-и!
Потому что видела: вот сейчас железная колесница столкнется с деревянной
ладьей и та разлетится на части!.. Но Перун успел, развернул коней, и
ладья уцелела. А вот Велес в ней пошатнулся, не устоял... И тогда громовержец
подхватил его за грудки и к небу сначала поднял, а потом уже в черную
бездну швырнул, и молнию следом послал - насквозь молния Велеса-бога пронзила.
- О-о-о! - кричал он, и падал, и снова кричал: - О, проклятье!
И удар тяжелого тела о камни из бездны донесся, и следом - мучительный
стон.
- У-у-у! - завыла богиня, и смерчем хотела стать, и к Велесу ринуться,
в пропасть, а потом убрала с лица волосы да и вдруг расхотела. Потому
что железную колесницу прямо перед собою увидела. И в ней - победителя,
вседержителя, громовержца. Борода и усы его развевались, как тучи, глаза,
будто звезды, сияли, а голос был грому подобен:
- Что, испугалась, жена? Не бойся! Велес снова повержен!
И вот уже дальше неукротимые, разгоряченные кони его повлекли. И Мокошь
с волнением вслед им смотрела. И повторяла вместе с рокочущим эхом:
- Велес повержен, повержен, повержен... И что же из этого? Разве не вечность
у нас впереди?
"Велес повержен!" - эхом над садом небесным неслось. И вдогонку
- из бездны: "Жар, сын, не верь! Я еще не повержен! Я не повержен,
пока сражаешься ты!"
"Так вот оно что!" - Кащей уже веретенное дерево миновал - всё
в нежно-зеленой листве и разной величины веретенцах. И снова подумал про
Жара, про Велеса, про Дажьбога: "Значит, вот оно что!" - и думать
себе запретил. И в то же мгновение во мраке увидел сияние. Оно было слабым,
едва ощутимым - золотое сияние яблок - когда он был маленьким, этот же
ровный и мягкий свет исходил от Симаргла... И у мальчика не осталось сомнений:
перед ним было дерево жизни. И он потянулся к ветвям. А дотянуться не
смог. Казалось, что ветви нарочно от рук ускользают. Он потянулся еще
раз, а дерево точно на цыпочки встало... И тогда он поправил на поясе
меч, подпрыгнул, покрепче схватился за ствол. И ствол задрожал - чтобы
сбросить его? А может быть, дереву стало страшно от близости человека?
Но сейчас за Кащея думали ноги, глаза и пальцы. И вот уже первое яблоко,
теплое, полупрозрачное, лежало в его руке и освещало ладонь. И еще потянулся,
и быстро сорвал второе. И спрыгнул на землю - на небо он спрыгнул! И от
этого голова на миг закружилась. И он снова себе сказал: не думать! -
и пошел, а потом побежал.
Большое, тяжелое веретено, упавшее с веретенного дерева, было белым, а
может быть, и седым. Упало и покатилось с пригорка в небесную реку. Не
думать! - и все-таки вслед ему посмотрел, и дальше помчался, и возле небесного
очага увидел оленя. А колокольчиков на его рогах не заметил. И, яблоки
сунув за пазуху, осторожно к оленю подкрался. И стремительно на него вскочил,
и обнял за шею.
- Ты только меня через бездну перенеси! - прошептал. - Мы только с тобою
поможем Дажьбогу!
И фыркнул олень, и тряхнул головой, и помчал его... Звон, какой оглушительный
звон понесся в это мгновенье над садом!
 |
1
Распахнутой пастью Жар в бездну светил. Стоял на самом ее краю и потерянно
бормотал:
- Отец, ты там как? А мне... мне что здесь? Что мне делать?
И поднял от бездны полный отчаянья взгляд. И Кащея на высоком утесе увидел.
Он на олене небесном сидел. Или был он только ужасным видением? И раскрыв
пасть пошире, Жар обоих их выхватил из темноты. И оба прищурились так,
как видения щурится не умеют!
- Ты?! Живой? - с яростью крикнул Жар.
- Я, живой, - хмуро ответил Кащей.
В заливающем его свете он всё равно был как на ладони - у бога, у этой
огромной скалы. И шепнул едва слышно оленю на ухо:
- Прыгни, ну же! Ты ведь небесный!
Но олень лишь испуганно ширил ноздри, и мотал головой, и звенел, и звенел...
- Человек! - это Мокошь кричала, садом небесным несясь: - Перун! Здесь
был человек! - И выбежав на утес, и увидев Кащея: - Он здесь! Человек!
Как дерзнул ты быть здесь?
И громовержец - над бездной зависнув в своей колеснице:
- Человек? Невозможно! Невероятно!
- Небывало! - воскликнула Мокошь. - Он похитил небесные яблоки!
- Ты похитил небесные яблоки? - пророкотал громовержец.
И Кащей вдруг увидел: они у него под рубахой светились!
- Аха-ха! Молодчина! Похитил! - это Велес из бездны стенал.
- Он похитил их, - голос Симаргла сначала послышался издалека. Юный бог
шел по тучам - нет, он по тучам бежал, перепрыгивал с края на край, раздвигал
их руками. - Он похитил их, да. Отец! Но вину эту он попробует искупить.
И один из своих мечей - с золотыми зверями на рукояти - перебросил над
бездной.
Меч лежал теперь будто узкий сияющий мост. Лишь Кащей понимал, почему,
для чего. И олень понимал, и тревожно прядал ушами, и испуганно пятился.
И тогда Кащей с него соскочил, и попробовав холод меча босою ногой, осторожно
шагнул и двинулся между двух его лезвий небольшими шагами.
- Эту вину искупить невозможно! - так воскликнул Перун.
А Мокошь зло обернулась к Симарглу:
- Видишь, сын, что бывает, когда боги не вмешиваются в человеческую судьбу!
И Перун - от гнева тряхнув колесницу:
- Его ожидает жестокая кара.
И Мокошь - от гнева тряхнув головой:
- О мой громовержец! Хотя бы в его наказание ты мне позволишь вмешаться?
- Он твой! - так ответил Перун и руку над бездной простер.
И кони благоговейно заржали.
- Отец, - не без робости начал Симаргл, но увидев, как храбро шагает над
пропастью мальчик, своей робости устыдился. И голос его окреп: - Он похитил
небесные яблоки не для того, чтобы вечно жить на земле... А для того,
чтобы вечно любить.
Мокошь вскинула брови:
- Ах, любить! Значит, кары достойны двое!
- Нет! - воскликнул Кащей и возле самого лезвия пошатнулся. И руки раскинул,
и на ногах устоял. - Виноват я один! - и снова двинулся дальше.
Меч теперь становился всё уже. А движения Кащея - всё решительней и быстрей.
Даже Мокошь залюбовалась. Семь шагов оставалось ему до каменного плато,
где во тьме притаился, притих, пасть свою стиснув когтями, Жар.
И Кащей закричал:
- Змеёныш! Ты отпустишь Дажьбога сам? Или я должен ему помочь? - и шагнул
на плато, и из-за пояса выхватил меч.
- Дажьбогу? - изумленно промолвил Перун.
И Мокошь:
- Дажьбогу? Помочь? Что говорит этот смертный? Он смеет думать, что богу
возможно помочь?! Что жалкий, маленький человек...
Но свет, вдруг полыхнувший из Жаровой пасти, был так неистов, что Мокошь
вдруг всё поняла. И в смятении умолкла.
Кроме света, из Жаровой пасти пробивался еще и огонь. Из пасти и из ноздрей.
Но Кащей упрямо к нему приближался. И в ослепительном солнечном свете
казался всё меньше, все беззащитней. И все-таки не Кащей - Жар от страха
сначала попятился, заметался на четвереньках, а потом встал на задние
лапы, прижался к скале и от отчания выдохнул пламя.
Огонь уже охватил на Кащее рубаху, когда его меч дотянулся до Жарова живота
и вспорол его. Солнечный свет - не лучом, а светящимся шаром - вдруг озарил
всё вокруг, а потом и затмил скалы, бездну, железную колесницу. И Перун,
с ликованьем прищурившись, крикнул:
- Дажьбог! Как я счастлив!
Но даже и сам громовержец был в ослепительном этом сиянии едва различим.
Что же сказать о спасенном Дажьбоге? Угадать его было можно лишь по краям
его белых одежд, казалось, сотканных только из света. И по зычному голосу:
- Мокошь! Перун! Это было так нестерпимо... Но что это было?!
Мокошь хмуро молчала. Она смотрела на поверженного Кащея. Даже Жар, кричащий
и корчащийся от боли, богиню не занимал. Лишь недвижимый Кащей притягивал
ее взор.
- Он мертв! - сказала она наконец с горечью, но без всякого сострадания.
- Зачем же так быстро он мертв? А как же мое наказание?
- Он жив, - едва слышно промолвил Симаргл. - Он неподвижен от боли...
- Жив? - улыбнулась богиня и одежды на ней разукрасились в бронзу и медь.
- Жив! Ну что ж! Значит, целую вечность нас будет ждать небывалое.
И смех ее в бездну сорвался, и Велеса там растревожил:
- Он всё еще жив! О проклятье! - и тело свое большое, и камни ворочать
стал.
И Мокошь в ответ - со смехом:
- Жив, словно мертв! Аха-ха-ха! Мертв, словно жив!
2
Даже самой холодной зимой не стоял над Селищем такой лютый мороз. У костров
грелись дети. Но не прыгали через огонь, как любили когда-то: кто выше,
кто дальше? Нет, лишь топтались молчком и уныло сопели. А взрослые снова
были на крышах. Снова руки к черному краю неба тянули и уже безголосо
почти, губами лишь заклинали: "О Дажьбог!"
Неужели услышал и внял? Поначалу им показалось: это снова молния полыхнула.
Необычайная, невероятная - от края земли и до края. До того ослепительно
яркая, что иные от ужаса закричали, а иные от страха и навзничь упали,
лица спрятали в заиндевелой траве. Лишь Ягда стояла на княжеской крыше
и посохом потрясала:
- О Дажьбог! Ты внял! Ты услышал! В тебе наша сила!
И крик ее вместе с неисчезающим светом людей ободрил. И лица их от холодной
травы отлепились, и взгляды - счастливые, неотрывные, слезные, - обратились
к Дажьбогу. Но рты не могли еще отыскать нужных слов. И рты их в смятеньи
кричали:
- А-а-а! И-и-и! - и опять громче прежнего: - И-и-и! А-а-а! О-о-о!
Лишь Ягда одна говорила за них и посох свой к небу тянула:
- О Дажьбог! Ты с нами! Ты внял!
И Роска на крыше своей закричала от радости и от боли. И за живот огромный
схватилась. И стала Калине на руки оседать. И он ее в дом поскорее понес.
И Лада и Мамушка, только увидели это, - скорей помогать побежали.
И птицы на голых деревьях очнулись, опомнились и запели. А следом за ними
и петухи по дворам. И лед на реке затрещал. И капель зазвенела. И в доме
Калины и Роски вдруг раскричался младенец. И людям на крышах казалось,
он тоже кричит, как они: "А-а-а! И-и-и! О-о-о!" - он о том же
самом кричит, что большего счастья не надо желать, большего счастья и
не бывает - глаза распахнуть и увидеть вокруг белый свет.
3
Облако пролетело уже над Перуновыми столбами. А Кащей повторял лишь одно:
- А потом? Что было дальше?
И Симаргл отвечал ему голосом и губами, потому что иначе Кащей почему-то
не понимал:
- Белый конь прилетел на свист. Дажьбог сел в ладью. И уплыл.
- А потом?
- А потом оказалось, что корчится Жар не только от боли... Что он пытается
сбросить с себя свою старую кожу. И когда ему это наконец удалось, он
стал еще больше и даже еще…
- Почему ты никак не скажешь о главном? - и Кащей кулаками ударил по облаку,
и почти стариковская складка пролегла между черных его бровей.
- Да, ты прав, - и Симаргл на мгновение умолк, он искал в себе силы, искал
слова и не сразу их находил. - Потом Перун стал хвалить твою беспримерную
храбрость... И просить, чтобы Мокошь смягчилась. А она рассмеялась на
это…
- Рассмеялась? - с волнением крикнул Кащей.
- А потом даровала тебе бессмертие.
- Значит, я никогда не умру? - и вскочил, и клок облака сжал.
- Всё и так, и не так, - негромко ответил Симаргл.
- Я умру или нет?!
- Потом она прошептала: "Чуть не забыла! Да! В придачу к бессмертию
я дарую ему еще и безлюбие. Я лишаю Кащея дара любви! - И опять рассмеялась:
- Я лишаю дара любви их обоих! Кащея и Ягду".
- Но причем здесь любовь? - рассердился Кащей.
- Ягде Мокошь ссудила жить у Закатной реки. Не сейчас, а когда ее нить
совсем истончится. Между землею живых и землею мертвых. Быть в этом пограничье
хозяйкой. Летать...
- Как птица? - удивился Кащей.
- Как сама Мокошь почти. И всех собой устрашать!
- Как Мокошь, - хмуро промолвил Кащей. - А я? Говори же: я буду бессмертным?
Как Мокошь, как ты... Как другие боги!
- Нет, не как боги. Иначе, - терпеливо сказал Симаргл. - Твоя смерть...
у тебя ведь не было веретенца... и поэтому твоя смерть будет жить в костяной
игле. В той, в которой она однажды уже таилась.
- Почему моя смерть? - изумился Кащей. - Я бессмертный! Ты же сам мне
это сказал!
- Ты бессмертный, покуда...
- Покуда?!
- Покуда игла хранится в яйце. А яйцо - в корнях дуба. И любой, кто отыщет
это яйцо и сломает иглу... этим самым тебя убьет.
- Нет, - воскликнул Кащей и, выхватив меч, стал крушить уступы и выпуклости
белобокого облака. - Нет! Нет! Нет! Какое же это бессмертие?! - и упал,
и зарылся лицом в пушистую белизну.
А Симаргл вдруг увидел: на Сныпяти тронулся лед. И мальчишки, такие же
точно, каким был его семилетний Кащей, с беззаботной отвагою прыгают с
льдины на льдину. А взрослые люди - казалось, всё Селище разом - за Ягдой
спешат - к Перунову дубу. А вот и мальчишки уже карабкаются на берег и
следом бегут. И Симаргл улыбнулся:
- Там Ягда - внизу! Посмотри! Она стала княгиней!
Кащей приподнялся и сел. Лицо его было белее, чем облако:
- Не отвлекайся! Ты сказал: моя смерть живет в корнях дуба! Где он, этот
дуб?!
- Человеку этого лучше не знать.
- Нет, Симаргл! Ты не путай меня с людьми. Я-то буду бессмертным! Ради
этого только и стоит жить! Я буду свой дуб охранять. Днем и ночью!
- Мокошь этого и хотела, - с грустью сказал Симаргл.
А Кащей рассмеялся:
- Вот видишь! Значит, всё так и будет!
Там, внизу, на залитой солнцем поляне, люди встали широким кругом возле
священного дерева, взялись за руки, закинули головы к небу.
- Почему ты всё время смотришь по сторонам? - с досадой воскликнул Кащей.
- Где мой дуб? И когда же мы наконец до него долетим?
- Дуб растет на Лысой горе. Отсюда до него три дня пути.
- А нельзя ли быстрее? - с тревогой спросил Кащей.
И Симаргл покачал головой, и устало прикрыл глаза. И сказал без голоса
и без губ: "Мокошь и для меня придумала наказание. Мое имя однажды
покинет меня. Будто крик от губ отлетит... И останется в памяти у людей
только слово. А что за Симаргл такой - человек ли, крылатый ли зверь,
неужели же бог?.." И взглянул на Кащея. Мальчик спал, растянувшись
на облаке.
И Симаргл осторожно коснулся рукою его едва затянувшихся ран. И раны сначала
покрылись рубцами, а потом и вовсе исчезли.
4
Тень от облака затянула поляну и священное дерево. И люди, хотя они и
ходили по кругу маленькими приставными шажками, хотя их глаза и были закрыты,
эту тень на себе ощутили и на миг опечалились. И услышали хриплое, незнакомое
Ягдино: "Зыр? Зри? Зор?" - и опять обнадежились.
А потом из Перунова дуба вышла уставшая Ягда. Боги с ней говорили, боги
их не покинули. И ухватилась за посох, и недобро взглянула на облако:
оно было одно в целом небе, во всей его сини и шири, а нависло над ними,
над ней! - так взглянула, словно взглядом хотела прогнать. Чуть помедлила
и прогнала. И вместе с хлынувшим солнечным светом звонко провозгласила:
- Боги дали мальчику имя! Боги сказали: звать его Зорий!
И Калина, державший однодневного мальчика на руках и Роска, стоявшая рядом,
слез сдержать не смогли:
- Зорий! Зоренька! Зорька!
- Потому что на зорьке родился! Вот они его так и назвали!
И люди вокруг них открыли глаза и стали бить друг друга в ладоши - Яся
Силу, а после Удала, Лада - Щуку, а Мамушка Зайца. Били и радостно восклицали:
- Боги дали мальчику имя!
- Хорошее имя - Зорий!
- Боги больше не сердятся!
- Больше беды не будет!
А дети стояли вокруг и их слова повторяли. И от радости прыгали, и тоже
в ладоши друг друга били. И всё бы было совсем как прежде, если бы Ляс
на крыше не зазвенел. Близко была его крыша к священной поляне. Каждое
слово сюда долетало:
- Любовь нам дают бессмертные боги.
С любовью и мы на время бессмертны.
А большего не дано человеку.
О лучшем он и мечтать не смеет.
Оттого ли он пел, что слова вдруг сами слетелись? Или Зорию однодневному
счастья этим желал? Удивились, не поняли люди. А Ягда ударила посохом
оземь:
- Что такое? - вскричала. - Не время для песен! Время пряжу прясть. Время
холстину ткать! Время лес на дрова рубить!
Вот какая вышла из Ягды княгиня - складка поперек лба легла, две складки
у рта. И к Зайцу, и к Утке стремительно двинулась.
- Лед сойдет когда весь, в лодку сядете, - так сказала. - До ладейных
людей доплывете, - и амулет Кащеев с шеи своей сняла. - Инвару в ноги
поклонитесь. Скажете: Ягда два золотых одинаковых перстня иметь с ним
желает! А не поймет, тогда скажете так: Ягда в князья его хочет. Для людей
своих лучшего князя ей всё равно не найти!
- Твой голос, а воля - богов! - так Заяц с поклоном ответил.
А Утка сначала вспотел от волнения, пот вытер ладонью:
- А для тебя? Он что теперь - лучший и для тебя?
- Вы и я - разве не есть одно? - и волосы, на лицо набежавшие, решительно
убрала. - А только скажете Инвару так: пусть приплывает один! Нам нахлебников
его здесь не надо. Свои ратники есть! - и Утке золотой амулет протянула.
- А если в Дикое поле захочет...
- В поход? - это Заяц с мечтою спросил. - Степняков воевать?
- Ягда - рядом с ним будет на буланом коне! - так сказала княгиня и большими
шагами прочь от них по дороге пошла.
А Фефила - она на пригорке неподалеку сидела, шерстку теплым лучам подставляла,
- девочкин взгляд всё хотела поймать. Но как ни старалась, а не смогла.
И на белое облако стала смотреть, как оно уплывало от Селища дальше и
дальше. И снова на Ягду - она уходила по черной дороге. И снова на облако.
И вздохнула, а получилось, что свистнула: "Финь! Финь! Финь!"
Но некому было на свист ее оглянуться. И сначала пошла не спеша, а потом
побежала, а в чистом поле и рыжим клубком покатилась. Норку свою отыскала.
Сухую травинку сломила, лапками быстрыми перетерла и еще дунуть на одуванчик
решила. Дунешь, бывало, по осени на один, а новой весной уже вырастет
целое желтое поле! Огляделась по сторонам, - никаких у нее забот на земле
не осталось... Уши прижала, чтоб не мешали, да и полезла в нору.
| Design by Frozenoff© |

|
|
|
Обмен ссылками и баннерами - доска объявлений, регистрация сайта в каталогах, освобожденные домены
Доска объявлений: сайты, желающие обменяться ссылками, новые каталоги, в которых можно зарегистрироваться, новые сайты из Яндекс-каталога с возможностью проставления ссылки. Подписка на рассылки этой информации. |
 |

